Персональное
дело
(Из книги
«Вечный
Судный день», 1996)
Заместитель
декана
Геннадий
Александрович
Топорищев
был
секретарём
факультетского
партбюро. Я в
партии не
состоял, а по
учебным
вопросам
предпочитал
иметь дело с
секретаршей1
деканата.
Лет
сорока, среднего
роста,
сухощавый,
белокожий,
беловолосый,
белоглазый,
он был бы
типичным индивидуумом
без особых
примет, если
бы не нос
тонкий и
свёрнутый
набок. Нос
этот как бы
присутствовал
на фасе в
профиль,
словно судак
на подносе.
На
заседание
курсового
бюро Топорищев
опоздал.
Приоткрыл
дверь, просунулся
внутрь (в
руке он
держал стул)
и тихо расположился
у входа.
Закинул ногу
на ногу. Благообразно
сложил ладони
на
остреньком
коленце.
Воткнул нос в
темнеющее
окно.
Продолжайте-продолжайте,
кивнул
умолкшему докладчику
Топорищев. Я
ненадолго.
Проходил
мимо, слышу
заседаете
Случайно,
стало быть,
заглянул. На
огонёк. Учуял,
что пахнет
жареным и
зашёл.
Пахло
жареным.
Жарили меня.
На
дворе то ли
конец
октября, то
ли начало ноября.
Год
незабываемый
одна тысяча
девятьсот
пятьдесят
шестой
Персональные
дела
рассматривались
по пятницам:
каждую
пятницу
персональное
дело. Поточный
метод. Потом
утверждения:
на факультете,
на
институтском
комитете, в
райкоме.
Через
несколько
месяцев, в
марте 1957-го,
секретарь Кировского
райкома
Гриша Князев,
принимая из
моих рук
стального
цвета
книжечку с
тиснёным
профилем
Ильича,
скажет:
Вы можете
обратиться с
обжалованием
в городской
комитет
комсомола
А
я вдруг
почувствую
облегчение:
кончилось!
1 Теперь, умудрённый жизненным опытом, я понимаю, насколько был прав: секретарши везде в мире обычно компетентнее своих шефов, а джентльменский набор средств для взаимопонимания с ними несравненно более доступен и приятен во всех отношениях.
Но это
случится
потом.
Пока
же в здании
третьего
учебного
корпуса
курсовое бюро
первичная
инстанция
рассматривало
моё
персональное
дело.
Продолжайте-продолжайте,
кивнул
докладчику
Топорищев. Я
ненадолго.
Проходил
мимо, слышу
заседаете
"
вёл
антисоветские
разговоры,
утверждал,
что Карл
Маркс
является по
национальности
евреем,"
дочитал
фразу
докладчик.
Карл Маркс,
действительно,
был евреем,
спокойно
сказал
Топорищев.
Об этом писал
в статье о
Марксе
Владимир
Ильич Ленин.
Докладчик
растерянно
умолк.
Гипсовый
Карл Маркс в
красном углу
натянул на
мощнные
патлы белую
ермолку,
из-под
которой
спиралями
повисли
седые пейсы.
Он подмигнул
мне: "Не
дрейфь, прорвёмся!"
Продолжайте-продолжайте,
голос
Геннадия Александровича.
"Заявлял, что
на
радиотехнический
факультет
его не приняли
в связи с
еврейской
национальностью."
хрипло,
упавшим
голосом
сообщил
докладчик.
И
снова
Топорищев от
двери, из
своего прекрасного
далёка, подал
голос
спокойный,
негромкий.
Нужно
признать, что
такое
явление
имело место.
В недавнем
прошлом
имело. На лиц
еврейской
национальности
распространялись
некоторые
необоснованные
ограничения.
Партия
осудила эти
проявления.
"Есть
такая
партия!"
подумал я с
гордостью.
Растерянный
докладчик
оторвал
затравленный
взгляд от
бумажки.
Продолжайте-продолжайте.
"Утверждал,
что
Советский
Союз
участвовал в
создании
реакционного
сионистского
государства
Израиль,"
совсем уже
без голоса,
одними
губами
пролепетал
докладчик и
умолк
окончательно.
Это правда,
покачал
головой
Геннадий Александрович.
Наше
государство
всегда
стояло на
страже прав и
чаяниий народов,
не делая
между ними
никаких
различий.
С
благодарностью
взглянул я на
замдекана. Впервые
лицо
Топорищева
показалось
мне симпатичным
и
симметричным.
Редкие
снежинки
медленно
опускались
на промёрзший
асфальт.
Фиолетовая
перспектива
улицы была густо
пересыпана
жёлтыми
точками.
Большой
город жил
вечерними
заботами,
радостями, печалями.
Идти
в общежитие
не было ни
желания, ни
настроения.
 Из тьмы
вынырнула
сутулая
фигура Ренки
Силина.
Из тьмы
вынырнула
сутулая
фигура Ренки
Силина.
Рейнгольд
Иванович
Силин,
рифмоплёт и
балагур,
вечный студент-вечерник,
был известен
по меньшей мере
двум
поколениям
своих
однокашников-студентов
вот уже лет
двенадцать
или больше
того.
Я
встре-ети-ил
вас! пропел
прозрачным
тенором
Силин. На
непосвящённых
запев этот
производил
впечатление
убийственное.
Тембром
голос Силина
напоминал bel
canto народного
артиста
Козловского,
однако, со второй
ноты Силин
начинал
фальшивить, а
после
четвёртой
пел все
мелодии на
один лад, поэтому
он всегда
ограничивался
вступительным
тактом и
смолкал.
Топорищев
гнида, сказал,
выслушав мой
рассказ,
Ренка.
Я-то
теперь знал
это лучше,
чем он.
Топорищев
дерьмо, не
унимался
Ренка.
Я
не возражал.
Топорищев
подонок.
Силин
закипал.
Я
понял, что
обязан
внести лепту.
Топорищев
блядь.
Ты не имел
дела с
блядями,
усмехнулся
Силин.
Удивительно
благородные
женщины. Не
предадут и в
беде помогут.
И начисто лишены
ханжества. А
твой
Топорищев
ханжа.
Топорищев
ханжа,
поддакнул я.
Вот это ты
правильно
заметил,
обрадовался
Силин. Такое
дело требует
обмывки.
И обтирки.
Золотой
человек!
Мы
отправились
обмывать и
обтирать
ханжу Топорищева.
Вообще-то
я не любитель
ресторанов.
Самое большее,
что я
позволял
себе в
студенческие
годы это
иногда, в
день
стипендии,
посидеть в
кафе Дома
работников
искусств, в
ДРИстоловой.
Солянка с
почками, солёными
огурчиками,
пахучим
перепончатым
лимонным
кружочком
десять
рублей, а в
тарелке
плавают
чёрные
мясистые
маслины! Если
разориться
ещё на
двенадцать с
полтиной
появляется
на столе
отбивная на
косточке, да
с жареной
картошкой, да
с горчичкой,
которая забесплатно
и без
ограничения,
ешь сколько
хочешь!
Воспоминания
о таком обеде
долго согревали
потом душу;
ради них
стоило пожить
впроголодь
несколько
дней перед
следующей
стипендией,
когда
кончались
деньги.
Силин
на мелочи не
разменивался,
Силин повёл
меня не в
ДРИстоловую,
а в настоящий
ресторан.
В
зале было
многолюдно,
шумно и
дымно.
Ренка
набрался
быстро. Я
почти не пил
и не ел не
было
настроения; я
оставался до
отвращения
трезвым.
Пей!
приказал
закосевший
Силин. Ешь!
Чтобы
не
ввязываться
в спор, я
выпил и закусил.
Ешь! опять
приказал,
наливая,
Силин. И пей!
Я
выпил и
закусил ещё.
Пешь! Силин
наполнил
рюмки. И ей!
Его язык уже
спотыкался о
зубы.
Сигаретный
дым висел над
столами,
гремела музыка,
какие-то пары
пытались
танцевать. Было
душно.
Пойду подышу
свежим
воздухом,
сказал я.
Примораживало.
Сухой ветер
обжёг щёки,
гортань,
лёгкие; я,
распахнув
пиджак,
вбирал приятный
холод. Под
фонарём
покачивалась
фигура, она
совершала
безуспешные
попытки
расстегнуть
ширинку.
Я
вдруг
вспотел, по
обернувшемуся
в мою сторону
кривоносому
лицу узнав
замдекана. Топорищев
хихикнул,
боднул
темноту и
синусоидально
направился в
мою сторону.
Казалось, что
ноги его и
туловище
движутся без
всякой
синхронизации
между собой.
Я отступил в
тень.
Он
меня не
заметил, но,
тем не менее,
обронил на
ходу
странную ни
к кому фразу:
Наше дело
правое,
хе-хе-хе,
победа будет
за нами,
хе-хе-хе.
Классика,
понимаешь!..
Меня
передёрнуло
наверно от
холода. Я
оглянулся
вслед прошедшему
мимо меня
человеку, всё
ещё сомневаясь,
Топорищев ли
это (да и
вообще: проходил
ли здесь
кто-нибудь?).
Вход
в ресторан
был безлюден;
только стеклянная
дверь, плавно
покачиваясь,
то выплескивала
наружу волны
тёплого
воздуха с приглушёнными
звуками
томительно-сладкой
музыки, то
перекрывала
их.
Пьяного
Силина я нёс
на себе.
Топорищев
тащился
сзади, прыгая
попеременно
то на одной, то
на двух
ногах, словно
играл в
классики.
Брысь,
предатель,
сказал я.
Я не
предатель, /
я честный /
советский /
человек, /
коммунист,
возражал
Топорищев
рублеными в
такт прыжкам
фразами.
Комму-нист! /
комму-нист! /
комму-нист! /
Прыг-скок.
Эту фигню я
уже слышал от
тебя на бюро.
Ну и / что! / Ну
и / что! /
Прыг-скок.
Вшивый
философ! Но
ведь ты же,
сучий потрох,
сам признал
на бюро, что я
прав!
Ты прав / в
частностях, /
в частностях,
/ в частностях!
/ А наша
правота / в
принципе, / в
принципе, / в
принципе! /
Прыг-скок.
Топорищев
забежал
вперёд и,
пятясь задом,
затараторил
мне в лицо:
Тебе не место
/ в наших
рядах, / не
место / в
наших рядах, /
не место / в наших
рядах! /
Прыг-скок.
Сука ты,
парторг.
От суки
слышу, / от
суки слышу, /
от суки
слышу, / хе-хе-хе.
/ Прыг-скок.
К
ночи ещё
похолодало,
но из-за
Ренкиного бездыханного
тела, мешком
перекинутого
через моё
плечо, мне
было тяжело и
жарко. Я сгрузил
собутыльника
на тротуар,
выпрямился,
расстегнул
пальто,
потянулся,
расправляя
члены. Подставил
рот ветру,
глотнул,
поперхнулся,
закашлялся
Работай-работай,
пропищал
Топорищев и с
неожиданной
лёгкостью
вскочил мне
на плечо.
Сам работай!
выплюнул я
ком ветра в
его сторону,
но Топорищев
от плевка
увернулся. Я
дёрнул
плечом,
попытался
стряхнуть
замдекана, но
безуспешно.
Длинным
тонким
хвостом он
обвил мою
шею, щекоча
мягкой
кисточкой за шиворотом.
Кто не
работает, тот
не ест, / тот не
ест, / тот не ест!
/ Прыг-скок,
голос
Топорищева
был почти ласковым.
Тоже мне
погоняла,
раздражённо
сказал я. Вот
бери Силина и
тащи на себе.
Комсомолец,
не "тыкайте"
старшему!
взвизгнул
Геннадий
Александрович
и спрыгнул с
моего плеча
на заснеженный
асфальт.
Накося,
выкуси,
расхохотался
я. Комсомо-олец,
как бы не так!
Я теперь не
комсомолец, я
теперь
исключённый
из славных
рядов, вот
кто я! А ты
антисемит
вонючий. Я
тебя теперь в
гробу видел.
Понял? "Комсомо-олец!"
"Не
ты-ы-ыкайте!"
Дурак!
захихикал и
игриво
задёргался
Геннадий
Александрович.
Пока
решение об
исключении
не утвердили
в райкоме, ты
комсомо-олец.
Ты ещё на-а-аш!
И обя-язан!
выполня-ять!
уста-ав! Я ещё
успею тебе
тако-ое
взыска-ание в
личное дело
засанда-алить!..
Он высунул
длинный,
раздвоенный
на конце
язык. Хе-хе-хе. /
Прыг-скок.
Брысь!
крикнул я и
замахнулся.
Топорищев
проскочил у
меня под
мышкой, подпрыгнул,
скорчил
мерзкую рожу
и растаял в
воздухе. Дул
ветер, шёл
снег, пахло
горелыми
спичками.
Я
взвалил
Силина на
плечо,
покачался, но
на ногах
устоял.
"Как
меня
развезло!
подумал я.
Хорошо, что голова
в порядке."
Хе-хе, в
поря-ядке,
как бы не так.
Голова твоя машет
ушами, как
крыльями
птица. Понял?
Ей на шее
ноги маячить
больше
невмочь,
невмочь,
невмочь
А ты говоришь
в поря-ядке! /
Прыг-скок.
Силин
посмотрел
вдаль и
заплакал. Мне
стало жаль и
его, и себя, и я
заплакал
вместе с ним. Топорищев
плясал
вприсядку
вокруг нас,
выкидывая
перед собой
волосатые
парнокопытные
ноги. Над
нашими
головами
торжествовало
полнолуние.
Начиналось
полное
затмение.
Утром
у входа в
третий
учебный
корпус я встретил
Топорищева.
Он сухо
поздоровался
и прошёл
мимо. А может
быть и не
поздоровался
вовсе, может
быть мне
показалось,
что он поздоровался.
Может быть,
мне хотелось,
чтобы он
поздоровался.
У
меня болела
голова. Силин
вообще
встать не
захотел,
только
просил
раздобыть
чего-нибудь
опохмелиться.
А
я
опохмеляться
не научился.
На
факультетское
бюро меня
даже не
пригласили,
утвердили
исключение
и всё.
(Удивительно,
я и сейчас
помню многие
фамилии.
Секретаря
факультетского
бюро звали
Коля Аксючиц.
В пятьдесят
девятом его
самого за
какие-то
мерзости,
пьянство,
разврат
исключили из
комсомола. Он
плакал,
унижался. Но
это было
потом, а пока
он исключал
меня.)
После
факультетского
бюро
предстояло
обсуждение
на
институтском
комитете.
Наш
студенческий
городок
состоял из
девяти
кирпичных
пятиэтажных
корпусов.
Первый, единственный
оштукатуренный,
назывался профессорским,
обитали в нём
чиновники средней
руки
(профессора и
большие
начальники
давно
обзавелись
добротными
квартирами в
городе), в
остальных
строениях
жили студенты,
аспиранты,
ассистенты. Я
занимал "койкоместо"
в девятом.
Нас
было
тринадцать
человек в
туго набитой
железными
лежанками
полукруглой,
как фонарь,
комнате
впритык одна
койка рядом с
другой. Здесь
обитал
странный и весёлый
интернационал
случайно
оказавшихся
в одной
компании
парней,
съехавшихся с
разных
концов
необъятной
страны. У
каждого была
своя
география и
своя история,
достойные
отдельных
рассказов,
повестей и
романов.
(В
скобках в
качестве
курьёза. Вот
как представлялось
мне
население
нашей
комнаты: Лёнька
Медовый был
армянин,
Валька
Гребельский
поляк, Юрка
Каланджиев
грек, Саша
Пичурин
русский, Коля
Четин коми,
Саша Фискинд
и я евреи,
Коля Хесс
молдаванин,
остальные
пятеро
русские и
украинцы. Так
было вначале,
на первом
курсе.
Позднее,
постепенно,
евреями
оказались,
кроме Сашки
Фискинда и
меня, Лёнька
Медовый,
Валька
Гребельский,
Саша Пичурин,
Коля Хесс.
Грека Юрку
Каланджиева
мы произвели
в почётные евреи,
и он не
возражал.)
Приближался
день
заседания
комитета ВЛКСМ,
в повестке
дня которого
значилось
рассмотрение
моего
персонального
дела.
Недели
за три до
установленной
даты в моей биографии
возник новый
персонаж.
Звали его
Риммой
Викторовной
Ивановой. Был
этот
персонаж
преподавателем
основ марксизма-ленинизма
и членом
комитета
комсомола,
даже одним из
двух
заместителей
секретаря.
Лет
персонажу
было на вид
двадцать
пять; была
она
круглолицей,
чуть
полноватой
в меру, носик,
задорно
вздёрнутый,
придавал её
улыбке
обаяние
искренности,
а очки в сочетании
со званием
кандидата
исторических
наук
свидетельствовали
об учёности.
О
первом её
внезапном
визите
рассказал мне
Сашка
Фискинд.
Слушая его, я
представил
себе, как это
происходило:
большая
неуютная
общежитская
комната,
пропахшая
мужскими
запахами
молодого
пота,
тройного
одеколона,
дешёвых
сигарет,
сапожного
гуталина,
недоеденных
консервов,
недопитого
вина; на
батареях отопления
сушатся
плохо
простиранные
носки, под койками
свалка:
чемоданы,
обувь, старые
книги, а на
забросанных
серыми
одеялами
койках
возлежат
неухоженные
мальчики,
строящие из
себя бывалых
мужчин. Над
столом
тускло горит
одинокая
электрическая
лампочка; от
её горения
света в
комнате не
прибавляется.
Распахивается
дверь, и на
пороге
появляется женщина.
Она молода,
привлекательна,
с её приходом
в комнате
становится
светло и
уютно, улетучивается
смрад
холостяцкой
неустроенности,
а небритые
лица
обитателей
берлоги расцветают
улыбками
сказочных
принцев.
Женщина
лёгким
взмахом руки
отряхивает с
воротника
снег,
озирается,
бросает
шубку и рукавички
на ближайшую
койку,
запросто
усаживается
на чью-то
постель,
одёргивает
на коленях
юбку,
улыбается:
"Как хорошо у
вас!" и дарит
каждому
приветливый
взгляд. После
нескольких
общих фраз
лицо её
становится
серьёзным; её
озабоченность
передаётся
остальным.
Ну, что,
молодёжь,
будем делать?
Надо спасать
друга. Ведь
вы друзья,
правда?
Конечно,
мы друзья.
Тогда
полный
вперёд.
Времени
осталось совсем
ничего. Она
перечисляет:
нужно
сочинить
коллективное
письмо,
собрать
подписи
побольше
подписей, поговорить
в парткоме и
на
общественных
кафедрах.
Этим займусь
я. А вы
держите меня
в курсе ваших
дел.
Тебе повезло,
сказал
Сашка
Фискинд. Иди
к ней, она
просила. Хочет
тебя,
обормота,
видеть. И вот
ещё,
наставительным
тоном
добавил
Сашка.
Ничего не
предпринимай,
не
согласовав с
Ивановой. Что
бы мы тебе ни
посоветовали,
слушай
только её. Она
лучше знает,
что и как.
Было
около девяти
часов вечера.
Поздновато.
Ничего,
иди-иди,
сказал Сашка.
Она хочет
тебя видеть.
Он
многозначительно
улыбнулся:
Не упускай
шанса! Баба
что надо!
Римма
Викторовна
жила во
втором
студенческом
корпусе три
минуты
умеренным
шагом. Я
мчался,
словно
преодолевал
дистанцию на
международных
соревнованиях
и от моего
результата зависела
судьба
города,
страны, мира;
мне же казалось,
что я всё
бегу, бегу и
никак не добегу
до цели. Там,
на финише, я
должен
встретиться
с женщиной,
которая
хочет мне
помочь, которая
выслушает
меня, сразу
поймёт и
сумеет всё
объяснить
другим. Ветер
дул мне в
лицо и в
спину
одновременно,
позёмка путалась
под ногами, я
оступался и
проваливался
в
придорожные
сугробы,
нырял в
канавы, которых
здесь
отродясь не
бывало, а
теперь они
откуда-то
взялись,
чтобы мешать
мне, чтобы
замедлить
мой бег, а я
так спешил к
незнакомой,
но у меня не
было
сомнений
необыкновенной
доброй (и,
надо
полагать,
красивой)
женщине.
Наконец,
дверь
настежь, и
передо мной в
выцветшем
бумазеевом
халатике
милая,
по-домашнему
близкая,
улыбающаяся,
кажется сто
лет знакомая
Римма
Викторовна
распахивает
за стёклами
очков добрые
глаза.
Вы?
Я.
Шаг
в сторону:
Проходите.
Вхожу.
Садитесь.
Сама
садится
напротив,
одёргивает
халатик,
перехватывает
на своих
коленях мой
взгляд,
улыбается:
Хотите чаю?
Пожимаю
плечами.
Будем пить
вместе.
Вдвоём. Муж,
как обычно, допоздна
пропадает на
кафедре.
Ага,
муж.
Пропадает на
кафедре.
Ага, муж.
Пропадает на
кафедре.
Улыбается.
Перехватывает
мой взгляд на
верхней
пуговице
халатика.
А вы
Что?
Любите варенье?
Какое?
Смеётся,
перехватывает
мой взгляд на
переносице,
поправляет
указательным
пальцем очки.
Встаёт,
выходит из
комнаты.
Оглядываюсь.
Две
кровати,
крохотный, на
двоих,
столик, два
стула,
этажерка.
Маркс,
Энгельс,
Ленин, занимательный
Перельман, справочники
по
математике,
по
электровакуумным
приборам, по
физике.
Пухленький
томик стихов
К.Симонова. Redyard
Kipling в
подлиннике!
Чай готов.
Передо
мной светлые
волосы, серые
глаза. Делаю
глубокий
вдох. Густая
заварка
хорошо!
Рассказывайте.
О чём?
Обо всём. О
себе.
Спрашивайте.
Руки
маленькие,
спокойные, с
ямочками
по-домашнему
мирно лежат
на столе. И на
щеках ямочки
когда
улыбается.
"Улыбнитесь".
Ямочки
обозначились
и исчезли.
"Улыбнитесь
ещё".
Смотрит
серьёзно:
Хорошо, я
буду спрашивать.
У вас есть
девушка?
Ничего
себе начало!
Есть.
Она еврейка?
Взгляд
на одно
мгновение
пристальный.
Да.
У меня муж
тоже еврей.
Это я так, к
слову. Он из
ассимилированной
семьи, а
теперь вдруг
начал
интересоваться.
Пытается
достать пластинки,
но это сейчас
почти
невозможно,
всё было
запрещено,
уничтожено.
Мало у кого
сохранилось,
люди боялись.
У меня есть
Эпельбаум,
Саул Любимов,
кое-какие
книги: о
Михоэлсе,
Шолом-Алейхем.
Если хотите,
я после
каникул
принесу.
Радостно
кивает в ответ.
Да вы пейте,
пейте, берите
варенье
Вы
еврейский
язык знаете?
Знаю. Пишу и
читаю, а вот
говорю с
трудом, мало
практики.
Родители
говорят
по-еврейски,
я всё
понимаю, но
отвечаю
по-русски.
Писать легче,
чем говорить.
Забавно.
В
комнате
тепло, чай горячий,
пахучий, мне
хорошо,
уютно, не
хочется
уходить.
Вопросы,
ответы. Она
спрашивает, я
отвечаю.
Наливает ещё
мне и себе.
Заварку из
маленького
чайничка с
отбитым
носиком, кипяток
из большого
алюминиевого
чайника.
Кладите
больше
сахару.
Я с вареньем.
Чай
уже не такой
горячий,
опустошаю
стакан залпом.
Хотите ещё?
Нет, я пойду.
Мне с вами
интересно.
Приходите.
"Улыбнитесь
ещё, на
прощанье."
Весёлые
ямочки
вспыхнули на
её пухлых щеках.
Опять
ныряю в
ветер, в
позёмку;
после такого
вечера не хочется
возвращаться
в общежитие.
Прав
Сашка
Фискинд: мне
повезло.
Говорят,
во сне
летают, когда
растут.
Я
уже не расту,
но летаю. Я
летаю с
Риммой Викторовной.
Не во сне, а
по-правдишному,
повсамделишному.
Прихожу к ней
вечером, она
угощает меня
чаем с вареньем,
а я смотрю на
неё и
отрываюсь от
стула, парю
сначала в
комнате,
потом над тротуаром,
на уровне
второго
этажа,
третьего, четвёртого,
пятого, над
крышей
общежития, над
студенческим
городком, над
городом. Она,
Римма
Викторовна,
подлетает ко
мне,
пристраивается
рядом,
удаляется,
приближается,
и мы
беседуем,
беседуем. Её
волосы
развеваются
на ветру, касаются
моего лица,
гладят, и я
прикрываю глаза.
Она
спрашивает, я
отвечаю,
рассказываю.
Она то
серьёзна, то
её глаза
лучатся
тёплой
улыбкой, на
щеках
появляются
милые ямочки.
Иногда, если
она хочет
обратить на
что-нибудь
моё внимание,
она своей
рукой
дотрагивается
до моей руки.
Что
произошло на
курсовом
бюро? Мне
рассказывали,
что
Топорищев
поддержал
вас. Убедил
всех в вашей
правоте, а
потом бюро единогласно
проголосовало
за
исключение. Какая-то
несуразица.
Я
проваливаюсь
в воздушную
яму, срываюсь
вниз, но в
последний
миг Римма
Викторовна
удерживает
меня за
плечо, и я
зависаю над
заснеженной
крышей.
Смотрю вверх:
звёздное небо
и её глаза.
Взмах и мы
снова рядом.
Перевожу
дыхание. Она
поддерживает
меня за
локоть.
Спасибо.
Она
внимательно
смотрит на
меня, ждёт
рассказа.
По пунктам он
их разгромил
так, что они
загрустили.
Он взял слово
и говорит:
"Если смотреть
только на
частности,
выходит, что
всё
правильно. Но
обратите
внимание на
то, что вашего
товарища,
комсомольца,
советского студента
не волнуют
наши общие
проблемы, он
сосредоточил
своё
внимание на
отдельных,
нетипичных,
исключительно
негативных вопросах,
которые
нехарактерны
для нашего общества,
осуждены
партией и
должны уйти в
прошлое. Наша
старая
пословица
гласит: кто
старое помянет,
тому глаз
вон. Будем же
верны русской
народной
мудрости." Ну,
и
проголосовали:
глаз вон. Все
"за".
Ваши друзья
написали
письмо. В
вашу защиту.
Подписалось
больше
восьмидесяти
человек.
Хорошо, что
много
неевреев.
Порыв ветра
относит её в
сторону.
Движения рук
её и моей, и
она
подлетает ближе,
её глаза
рядом с
моими. Она
всегда смотрит
в глаза.
После паузы
спрашивает:
интересно,
были такие,
кто
отказался бы подписать?
Конечно.
Расскажите.
Я
чувствую её
дыхание, от
него ровнее
бьётся
сердце. Она
хорошо
слушает, не
перебивает;
хочется
говорить,
говорить.
Лёва Гоз.
Вы с ним
дружите?
Какое
там
"дружите"!
Так, крутится
около меня.
Лёва
"старик",
после армии,
капитан в
отставке,
женатый,
разведённый,
дочь
школьница.
Ходит Лёва в
офицерской шинели
с
недовыгоревшими
следами от
споротых
погон.
Во
время
"англо-франко-израильской
агрессии"
встретил
меня в
институте,
закричал все
оглянулись:
"Послали бы
меня в Египет
с моей
батареей я
бы твоим
ж-ж-жидам дал
прикурить!"
Потом
поймал меня
как раз после
разбора на
курсовом
бюро. "Хочу
пригласить
тебя домой,
чтобы папа с
тобой
поговорил.
Может, сумеет
тебе мозги
вправить."
Папа
встретил
меня широкой,
в полстены,
улыбкой.
"Слышал,
слышал, мне
Лёвочка про вас
рассказывал".
Папа
маленький,
кругленький,
седенький,
сладенький,
эдакий
старый большевичок,
с тридцать
седьмого
сидел, недавно
освободился
и сразу
восстановили
в партии.
Гордость и
радость
переполняют
старика,
выплескиваются
из его глаз,
носа, ушей.
"Откуда
у вас, у
молодого
человека,
такие взгляды?"
Папа
спрашивает
ласково, а
сам в упор
смотрит на
меня
просвечивает
до нутра, до
селезёнки.
"Какие
взгляды?" "Ну,
интерес к так
называемой
еврейской
культуре,
например."
"Почему так
называемой?
Я еврей. А в
культуре не
может быть
ничего плохого,
если это
культура." "Я
тоже еврей,
но меня это
не
интересует."
"А меня
интересует."
"Вот это-то и
странно. Мы
должны
строить интернационал
советских
народов, а не
обособляться.
Вы вспомните,
как
большевики
выступали
против
Бунда." "Вы
меня,
пожалуй, убедили,
говорю
испуганно:
мне только
лекции по
марксизму-ленинизму
не доставало.
Пойду домой,
сам наедине с
собой
подумаю."
Лёва вышел со
мной на
улицу: "Ну,
как мой батя
дал тебе!
Тёртый
старик,
старая
закваска.
Настоящий
большевик. Из
ленинской
гвардии. Не
нам чета."
Вот
к этому
самому Лёве
Сашка
Фискинд с письмом
и подрулил.
Тот как
закричит:
"Прекратите
заниматься
провокациями,
я сдам вас кому
следует!"
Выучка! На "вы"
с Сашкой
заговорил.
А тех,
которые
подписали, вы
всех знаете?
спрашивает
Римма
Викторовна.
Нет, что вы.
Есть
малознакомые,
есть совсем незнакомые.
Вот Сёма
Недобейко, мы
с ним никогда
даже не
здоровались,
не были
знакомы. Я
знал его в
лицо, да кто
же его не
знает!
Подошёл ко
мне, протянул
руку,
говорит:
"Держитесь,
мы с вами".
Кто "мы"?
Не знаю.
А вы бы
спросили
Кстати, он
еврей?
Да.
Сёма
Недобейко
студент
энергофака.
Квадратный:
что ввысь,
что вширь.
Говорят, у
него болезнь
сердца. Учился
он хорошо,
получал
повышенную
стипендию,
играл в
самодеятельности,
в любительском
театре.
Сёму
я встретил в
бане. Жара,
пар, грохот
шаек, шум и
плеск воды.
Сёма
громадный,
тело красное.
Присмотрелся,
разглядел,
узнал меня, подошёл
вплотную.
Протянул руку:
Держитесь, мы
с вами.
(Умер
Сёма
Недобейко
вскоре после
всех этих
событий. Я
был на его
могиле. Серый
камень, надпись,
фотография
Спасибо ему
за добро, за
доброту, за
порядочность.)
А есть и
такие,
которые при
виде меня
переходят на
другую
сторону
улицы. Не
хотят
встречаться,
боятся.
Вы теперь
популярны, о
вас в городе
говорят. Муж
рассказывал,
что
среди
евреев вами
интересуются.
Местная
знаменитость.
Да уж
Римма
Викторовна
облетает
вокруг меня.
Внизу, под
нами, город. С
высоты он
смотрится
совсем не
так, как с
земли.
Двойные ряды
огней, как
бесконечные
цепочки и
ожерелья до горизонта,
за горизонт:
это улицы.
Набранные из
светящихся
точек
прямоугольники
многоэтажные
здания.
Движущиеся
огни автомобили,
автобусы,
трамваи.
Вспыхнули и
осыпались
огненные
капли, словно
чиркнули спичкой
о коробок.
Это искрит
трамвайная
дуга. На
возвышенности,
перегородив
центральный
проспект,
раскинула
светящиеся
крылья
грозная
птица
главный
корпус
нашего института.
Вокруг него,
как птенцы,
суетятся здания
других
учебных
корпусов,
политехникум,
общежития. А
немножко на
отшибе мой
девятый студенческий
корпус. Мне
кажется, что
я даже вижу
"фонарь"
нашей
несуразной
комнаты. Там
ребята ждут
моего
возвращения.
Набросятся:
"Ну, что
она?" А она
вот она,
парит рядом,
скрывает от
меня свою
обеспокоенность
накануне
заседания, и
всё
расспрашивает,
расспрашивает.
У
меня
кружится
голова от
высоты ли, от
её ли
близости.
Полетаем ещё?
Полетаем.
Хорошо,
что она
соглашается
Я вчера
разговаривала
о вас на
кафедре.
Крацкин
отрезал:
"Ничего
хорошего
сказать о нём
не могу!" А
Дмитрий
Иванович
говорил о вас
тепло, обещал
написать
отзыв. Он
считает вас
прилежным
студентом.
Ручается за
вашу
благонадёжность
Лазарь
Моисеевич
Крацкин
(прозвище у
него Некаганович)
лектор по
основам
марксизма-ленинизма,
картавый
шепелявый
еврей. При
культе
отсидел десятку,
потом
защитил
диссертацию
на тему "Ведущая
роль
товарища
И.В.Сталина в
борьбе с врагами
советского
строя и в
укреплении
социалистической
законности".
В центральные
города
Лазаря
Моисеевича
после лагеря
не пустили; у
нас же в
институте он
стал
доцентом, иногда
замещает
заведующего
кафедрой.
Дмитрий
Иванович
Мотовилов в
прошлом редактировал
областную
партийную
газету; теперь
в институте
он руководит
семинарами по
основам марксизма-ленинизма.
Дмитрий
Иванович как-то
всегда
по-хорошему
смотрит на
меня, хоть я
ни разу не
выступил на
его занятиях:
не интересовал
меня научный
(и ненаучный
тоже) коммунизм.
Теперь же
поди ж ты: "А
Дмитрий Иванович
говорил о вас
тепло, обещал
написать
отзыв. Он
считает вас
прилежным
студентом.
Ручается за
вашу
благонадёжность
"
Во как!
Хочется
взлететь ещё
выше.
Давайте
спускаться,
пора, скоро
муж вернётся.
Мы
снова в
комнате.
Приходите
завтра. Скоро
заседание
комитета.
Нервничаете?
Не знаю.
Когда вы
рядом, мне
хорошо,
спокойно.
Мы
стоим у
двери, Римма
Викторовна
смотрит мне в
глаза, в душу
(если
существует в
марксистско-ленинской
теории такое
понятие: душа
в
принципе-то
оно
абсолютно
идеалистическое
и,
следовательно,
нам
враждебное).
Выхожу
в коридор,
слышу за
спиной
щелчок
поворот
ключа. Скоро
вернётся её
муж. И чего он
так торопится!
Поработал бы
ещё. А мы
полетали бы.
Давно
не навещал я
Силина. А
ведь его
комната в том
же девятом
студенческом
корпусе, двумя
этажами ниже
моей. Сядь на
собственные
ягодицы и
катись!
Последние
дни я жил
ожиданием
полётов с Риммой
Викторовной
от встречи до
встречи.
У
Силина сидел
Володя
Беляев.
А мы как раз
говорим о
тебе,
обрадовался
моему
приходу
Силин. Я
встре-ети-ил
вас!
Ренкины
завывания
начинают
меня
раздражать.
Тоже мне
народный
артист
Советского
Союза!
Что у тебя?
спросил
Володя
Беляев.
Я
рассказал о
ночной
встрече с
замдеканом у
ресторана.
Оч-чень
занимательная
история. И
неправдоподобная:
Топор в
рестораны не
ходит, употребляет
дома, в узком
кругу, без
рекламы.
Блюдёт
видимость
морального
облика. Не то,
что ты с
Силиным. Стало
быть вы его
там с пьяных
глаз с кем-то перепутали.
Я пьяным не
был и Топора
не видел,
отпёрся Силин.
Может, ещё
скажешь, что
ты, трезвый,
меня, пьяного,
на себе домой
волок?
А то нет!
совсем
обнаглел
Силин. Ты сам,
без моей
помощи, двух
шагов не
прошёл бы. До
сих пор всё
тело от тебя,
от бугая,
болит. Ну, и
здоров же ты!
Я тебя
волоку, а ты
разлёгся у
меня на плече
и права
качаешь, с
ветром
беседуешь.
Доказываешь.
Правдоискатель
сраный!..
Я
поперхнулся
от
негодования:
Ты, Ренка
только и смог
я сказать
Силину.
Хватит об
этом,
засмеялся
Володя
Беляев. Алкаши
несчастные.
Что ещё?
Ещё
существует
на свете
Римма
Викторовна. Володя
и Ренка
слушают, не
перебивают.
Да-а,
многозначительно
протянул
Силин. Это,
брат,
посильней,
чем "Фауст"
Гёте! Я встре-е-тил
Заткнись,
сорвался я.
Вот,
пожалуйста,
опять
несуразица,
помолчав,
проговорил
Володя.
Римма
Викторовна, Дмитрий
Иванович.
Некаганович
это
нормально.
Это
соответствует
правилам
игры.
Кафедра-то
основ
марксизма-ленинизма!
Быть на такой
кафедре
человеком и
противопоказано,
и
противоестественно.
И вот нá тебе:
Иванова,
Мотовилов.
Чудеса
Чудеса нужно
обмыть,
обрадовался
Силин и
потянулся к
тумбочке. Я
встре-е-тил
ва-ас!
Фу,
чёрт!
Воистину,
"эту песню не
задушишь, не
убьёшь".
Легче
задушить
певца.
На
столе
появилась
бутылка и три
гранёных стакана.
Мне пора,
поднялся
Володя.
А
мне
торопиться
было некуда.
"Только
бы не пел больше,"
с робкой
надеждой
подумал я.
Ну, будем!
Будем!
Наконец,
она настала,
ночь перед
рождеством?
перед
распятием?
как знать?
Последняя
ночь перед
Спал
ли я? Жил ли?
Дышал?
Надеялся?
Казалось,
эта ночь
никогда не
закончится. Я
с кем-то
беседовал,
кому-то
что-то
доказывал,
мои доводы
были самыми
убедительными,
мои
аргументы
самыми
неопровержимыми.
Бред
перемежался
со сновидениями,
явь
вторгалась в
галлюцинации.
Серый
февральский
рассвет
коснулся
окон и стал
лениво
растекаться
по комнате. Я
ворочался в
постели, ни
встать, ни
заснуть не
было сил.
Заседание
было
назначено на
десять. На
часах
половина
восьмого. В
комнате уже
никого, ребята
ушли на
лекции.
Встали
тихонько, разговаривали
шёпотом.
"Пусть
поспит,"
сказал Юрка
Каланджиев. Я
не спал, лежал
с закрытыми
глазами, не
хотелось
подавать
признаков
жизни,
выслушивать
советы, пожелания,
хотя не
сомневаюсь
они были бы
искренними. И
всё-таки не
хотелось.
Пусть уйдут,
тогда встану.
Не
хочется
ничего
делать, но
надо
побриться
приличия
ради.
Провожу
обувной
щёткой по
ботинкам. В
зеркало смотреть
не буду
чтобы не
сглазить. Да
и видеть свою
рожу тоже
небольшое
удовольствие.
Потому-то и
бреюсь
вслепую.
Ночью
шёл снег. Всё
бело, чисто,
празднично. Свежеутоптанные
тротуары с
пушистой оторочкой,
ветки с
ватными
подушечками.
По
голубому-голубому
небу
разбросаны
словно
вырезанные
из белой
бумаги
облака. Так
похоже на
трогательную
декорацию к
сентиментальному
спектаклю.
Громадный
мрачный
вестибюль
главного учебного
корпуса.
Многометровый
Орджоникидзе
поднял в
приветствии
правую руку.
У его в человеческий
рост сапога
обычно
назначают
деловые и
любовные
встречи.
Сегодня
здесь нет никого.
Встречи, что
ли, отменены.
А заодно и дела,
и любовь
Широкая
лестница
этаж, ещё
этаж,
коридор. Длинная
ковровая
дорожка.
Справа окна,
слева двери,
таблички:
|
КОМИТЕТ
ВЛКСМ |
|
ПРОФКОМ |
|
ПАРТКОМ |
У
второго окна,
напротив
комитета
комсомола,
стоят Ренка
Силин и
Володя
Беляев. Пришли
поболеть,
просто
постоять за
дверью, чтобы
я чувствовал
их
присутствие.
Римма
Викторовна
не пришла,
говорит
Володя.
Придёт.
Нет, не
придёт. Она
прислала
записку,
плохо себя
чувствует.
Значит,
отложат
заседание,
говорю я с
надеждой.
Нет, не
отложат. Она
просила не
откладывать.
Её мнение
изложит
другая дама
с её якобы слов.
Уже все в
сборе, скоро
тебя вызовут.
Я так не
согласен. Без
Риммы
Викторовны я
не согласен.
Приоткрывается
дверь,
называют мою
фамилию:
"Войдите". И я
пошёл.
Внезапно
накатил
приступ
безразличия.
Как будто
меня вдруг
вывели из
игры. Или,
вернее,
насильно
ввели в чужую
игру.
Какие-то люди
занимаются
чем-то, не
имеющим ко
мне
отношения, а
я обязан
исполнять в
их
представлении
другими навязанную,
неинтересную
мне роль.
У стены,
прямо против
входа, под
портретом Ленина,
сидит Женя
Казанцев,
секретарь
комитета. В
комнате
много народу,
с
большинством
я знаком:
студенты,
аспиранты
члены
комитета.
Будущие
партийные
работники,
командиры производства,
передовой
отряд
советского народа.
Говорят по
очереди, все
убеждённо высказывают
свои личные,
но очень
одинаковые мнения.
Комитетская
дама
передаёт
точку зрения
Риммы
Викторовны,
которая, к
сожалению,
плохо себя
чувствует и
присутствовать
на заседании
не может.
Римма
Викторовна,
по её, дамы,
словам,
считает меня
злостным
националистом
("Вот брешет! думаю
я почти равнодушно.
Воспользовались,
гады,
случаем!..") и
рекомендует
очистить от
меня ряды
ленинского
союза
молодёжи ("Гады!.."
почти
произношу
почти вслух
почти беззлобно).
Как же
так! делаю я
слабую
попытку
подать голос,
но меня не
слушают: это
не по роли, не
по их
сценарию.
Ведь Римма
Викторовна
Почему же вы
без неё-то?..
Голосуют.
Женя
Казанцев
констатирует,
что решение
первичной
организации
утверждается
единогласно,
учтено также
мнение отсутствующей
Риммы
Викторовны
Ивановой ("Внесите
это в протокол,"
обращается
он к
секретарше);
теперь дело
передаётся
на
рассмотрение
в Кировский
райком.
Повестка дня
исчерпана.
У окна
по-прежнему
Ренка Силин и
Володя Беляев
ждут меня.
Вопросов они
не задают.
Через
месяц в
коридоре
Кировского
райкома меня
опять будут
поджидать
они же,
Володя
Беляев и Ренка
Силин.
Войду в
кабинет
секретаря.
Кто-то что-то
докладывает.
Голосуют
единогласно.
Сдайте
ваш
комсомольский
билет.
Вы
можете
обратиться с
обжалованием
в городской
комитет,
скажет мне
секретарь
Кировского
райкома
Гриша Князев.
А я вдруг
почувствую
облегчение:
кончилось!
Вот с
этим
чувством
облегчения
тогда, в марте
пятьдесят
седьмого, я
вышел в
коридор к ребятам.
К
Римме
Викторвне я
пошёл прямо с
заседания комитета.
Она была
дома,
спросила
из-за закрытой
двери: "Кто
там?" и,
услышав мой
ответ, сказала,
что
чувствует
себя плохо, у
неё, наверно,
ангина,
высокая
температура,
пропал голос,
поэтому
открыть она
не может,
говорить не
может тоже.
Извините,
слабым
голосом
проговорила
Римма
Викторовна.
Я хотел
взлететь не
получилось
Следующая,
последняя
наша встреча
произошла в
конце июня,
когда я
вернулся в
Свердловск
от родителей.
Она всех
заложила,
сказал мне
тогда Сашка Фискинд.
Попёрли из
института
всех, кто тебя
поддерживал.
Под разными
предлогами.
Меня тоже.
Всех. Даже
Мотовилова.
Она про всех
всё знала.
Я
помчался во
второй
корпус.
К
двери была
приколота
записка:
Я на
кафедре.
Купи
молока,
макарон и
хлеба. Римма
Вперёд
на кафедру!
Подъезд,
сапог
Орждоникидзе,
лестница, коридор,
дверь, ручка.
Рывок на
себя.
Её я
узнал со
спины.
Римма
Викторовна
медленно
обернулась, и
в её глазах
мелькнули
любопытство,
недоумение,
растерянность
не знаю
точно, что, но
это было
разумное,
объяснимое
человеческое
выражение, я
успел его
уловить. Оно
длилось всего
лишь миг. И
следом
чужой и
равнодушный,
совсем
бесстрастный,
незнакомый
мне взгляд.
Вы ко мне?
Да, к вам
Вот приехал
и зашёл
повидаться
с
вами.
Считайте, что
наша встреча
состоялась,
прозвучал
сухой ответ.
И спиной ко
мне.
Я постоял
и вышел из
комнаты.
С
тех пор я
больше не
летаю. Не
хочется.
Повзрослел.
1994
Персональное
дело?
(Эпилог)
Израиль,
Беэр-Шева, 2012
Итак
Имени
Генриха
Леонидовича
Хазана в моём
«Персональном
деле» я не
упоминал,
непосредственно
в событиях
тех дней он не
участвовал.
Мы были
знакомы,
почти дружили;
«почти» из-за
разницы в
возрасте и
положении: я
был
студентом, а
он институт
уже закончил
и состоял
аспирантом
на одной из
ведущих
кафедр
металлургического
факультета. Объединяли
нас общность
интересов,
работа в
«БОКСе»
(аббревиатура
знаменитой и
талантливой
стенгазеты «Боевой
Орган Комсомольской
Сатиры»,
созданной и
руководимой
незабвенным
Алексеем
Борисовичем
Фёдоровым),
моя симпатия
к нему и его,
надеюсь, ко
мне. В самые мои
тяжкие
времена
Генрих
Леонидович, Гена
от меня не
отвернулся,
а, как
показали дальнейшие
события, было
это
небезопасно. Но
именно на
таких
поступках в
то время проверялась
человеческая
порядочность.
В
дальнейшие
годы, работая
на различных
свердловских
предприятиях,
я по каким-то
делам захаживал
в УПИ раз в
несколько
лет и
непременно
заглядывал в
третий
учебный
корпус, на первом
этаже
которого
находилась
кафедра. Мы
перебрасывались
парой-другой
фраз, пожимали
друг другу
руки,
улыбались
один другому
А
потом я
уехал. В
Израиль. То
есть навсегда
покинул
пределы СССР.
А
потом СССР
навсегда
покинул
пределы
земного
пространства,
навсегда
отменив
предыдущее «навсегда».
И
вот тогда в
моей жизни
опять
появился Генрих
Леонидович
Хазан, мой
друг Гена.
Как?
Не
помню
Я
подумал,
порылся в
памяти и, ничего
в ней не
обнаружив,
позвонил в
Свердловск,
вернее, в
Екатеринбург.
Генрих
Леонидович
порылся в
своей памяти
подумал
опять
обратился к
коре
головного мозга
Меня вывел на
тебя Рена
Силин,
наконец, сообщил
мне Хазан.
И
тогда я
вспомнил.
Я
вспомнил, что
вскоре после
перестройки
и падения самого
«железного» в
мире
занавеса к
нам на завод
в качестве
гостя прибыл
ректор Уральского
политехнического
института
профессор,
член-корреспондент
Академии
наук России
Станислав
Степанович
Набойченко.
Как было заведено
у нас на
заводе, я
сопровождал
гостя из
России (или,
даже, скорее,
из СССР). Мы,
естественно,
разговорились.
Услышав мою
фамилию,
член-коррспондент
задумался,
стал что-то вспоминать.
Я
решил помочь
ему.
Когда вы
поступили в
институт?
спросил я.
В
пятьдесят
восьмом.
Меня
исключили из
комсомола в
пятьдесят шестом.
Вернее, всё
закончилось
в марте пятьдесят
седьмого.
Я
был далёк от
всего этого,
но кое-что
всё-таки
Вот,
может быть,
это самое
"кое-что".
На
следующий
день по пути
на работу я
захватил мою
книгу «Вечный
Судный день»,
в которой,
среди прочих,
был впервые
опубликован
рассказ
«Персональное
дело», а в
рассказе названо
имя
работника
института,
сотрудника
металлургического
факультета
моего близкого
друга Ренки
Силина, или,
вернее, Силина
Рейнгольда
Ивановича, с
которым мы в
конце 1956 года
обмывали в
ресторане
исключение меня
из рядов
Ленинского
Союза
молодёжи.
Естественно,
вернувшись в
родные
пенаты, Станислав
Степанович
показал
книгу Ренке.
Ренка
прислал мне
испещрённое
мелким бисером
трогательное
письмо в
несколько
тетрадных
разворотов.
Я,
естественно,
с радостью ответил
ему.
Завязалась
не только
переписка, но
и телефонная
связь,
которая
продолжалась
до самой
Рениной
смерти.
Последний
раз я позвонил
ему, когда он
был уже
совсем плох, не
мог
разговаривать,
и я поговорил
с его женой
В
это же время
объявился и
Гена Хазан.
Теперь
Генрих
Леонидович
Хазан
ниточка, связывающая
меня со
Свердловском
(прошу прощения,
но для меня
город этот
так навсегда и
останется
Свердловском,
ибо в
Екатеринбурге
я никогда не
жил, не
выезжал из
него и связь
с ним
поддерживать
мне как-то ни
к чему, не мой
это город, не
мой
) Все
события моей
жизни, жизни
Гены, судьбы
наших общих
друзей (как
много их быо!
как мало
осталось
) мы
обсуждаем.
Поначалу
было несколько
писем,
приходивших
мне от него и
ему от меня
старинным
путём
авиапочтой,
затем, с бурным
развитием
технологии,
такой вид переписки
отмер как
аттавизм, и
мы стали обмениваться
посланиями
по
электронной
почте, а
временами
вдруг
хочется
пообщаться
вживую, и
тогда к нашим
услугам
международная
телефонная
связь, благо
цензура в
России, кажется,
отменена
(надолго ли?),
набор
телефонного
номера
производится
без
вмешательства
телефонистки,
прямо с
квартирного
или даже
мобильного
аппарата, и
никто не
врезает в
разговор
глушилку,
когда беседа
принимает
характер,
нежелательный
для
какого-либо
третьего
лица (третий
лишний?), как
это бывало в
не очень
давнем
прошлом.
Обсудили
мы с Геной и
пришедшее
мне из Свердловска
по
электронной
почте письмо,
автор
которого представился
так: «я внук
Топорищева».
То, что внук
решил
заступиться
за честь
деда, явление
понятное и
даже,
пожалуй,
похвальное, и
такой
поступок не
вызвал бы у
меня ни протеста,
ни даже
возражения.
Но в письме
не было и
намёка на
понятия
«честь»,
«достоинство»,
в нём было
несколько
оскорбительных
фраз в адрес
получателя и
угрозы «я всю
жизнь буду
тебе мстить»
и «я знаю, что у
тебя есть
дочь,
берегись!».
Писал явный
пэтэушник.
Пришло
письмо из
США. Подпись
Валька Гребельский!
Оказалось,
что некая
туристка из
Америки,
посетившая
Беэр-Шеву,
побывала на
эксурсии по
Негеву и
Мёртвому
морю, которую
вёл я (иногда
ко мне
обращались с
такими
просьбами
работники
Сохнута или
министерства
абсорбции, и
я никогда не
упускал случая
показать
русскоговорящим
визитёрам из-за
кордона,
какой
удивительной
страны они
лишили себя и
своих детей).
Иногда я дарил
экземпляры
моей недавно
вышедшей
книги «Вечный
Судный день».
Одна
из таких
книжек
пересекла
океан и оказалась
в руках
русского
иммигранта
Вальки
Гребельского.
И этот русский
иммигрант
решил
написать
письмо автору
книги. Так
возникла ещё
одна ниточка
из
студенческого
прошлого в
невероятное настоящее.
Валька
пишет мне
примерно раз
в 3-4 года, на мои
письма не
отвечает.
Вдруг
возникнет, и
поминай, как
звали.
Из
Хайфы позвонил
экс-молдаванин
Коля
(оказавшийся
Хаимом) Хесс.
Коля,
разумеется,
глубокий пенсионер,
привёз на
историческую
родину жену и
дочь и,
по-моему,
счастлив. Мир
его дому!
Прекрасная
писанистка,
преподававшая
в московском
училище
имени
Гнесиных и
многолетний
преподаватель
консерватории
в Беэр-Шеве,
моя добрая
знакомая
Фаня
Айзенберг выступала
в России и
попала в
город Липецк.
Вернувшись
из поездки,
она
позвонила
мне.
Илья, я
привезла вам
письмо.
Мне?
Из Липецка?
От кого?
Приходите.
Господи,
письмо от
Сашки
Фискинда!
Так
протянулась
ещё одна
ниточка.
Мой
приятель
Гриша Каплун
съездил в
Россию, тоже
побывал
Липецке,
который он
покинул полтора
десятка лет
назад. Его
пригласили в
еврейский
центр,
попросили
живого израильтянина
рассказать
про страну,
из которой он
приехал.
К
Грише
подошёл
местный
еврей и
спросил:
Вы
случайно не
знакомы с
Ильёй
Войтовецкийм?
Он
Как
случайно? Как
не знаком?
Так
до меня дошёл
ещё один
живой привет
от Сашки.
Позвонила
молодая
женщина из
Кфар-Сабы.
Здравствуйте,
Илья! Меня
зовут Элла
Фискинд. Я
дочь Саши
Фискинда. На
днях папа с
мамой
приезжают ко
мне в гости.

И
вот мы, т.е.
Вика,
маленькая
Рахелька и я,
сидим в
съёмной
олимовской
квартире
Эллы, и я таращусь
на моего
институтского
друга и соседа
по
общежитской
койке дорогого
Сашку, с
которым
столько
съедено и
выпито,
переговорено,
перемолото,
недоговорено
не по утайке,
а потому, что
многое и без
слов было нам
обоим
понятно
Сашка, здравствуй!
Войдя
на
электронную
почту, я
неожиданно увидел
письмо от
Елены
Каланджиевой!
С
нетерпением
«открыл»
послание и
буквально
впился в него
взглядом.
Письмо, к
сожалению, в
компьютере
не
сохранилось,
поэтому передаю
его
содержание
своими
словами.
Илья,
писала
Елена
Каланджиева,
ставшая вскоре
Леночкой,
моим любимым
человечком
на нашей
необъятной
крошечной
Земле, я дочь
того самого
грека Юры
Каланджиева,
о котором Вы
написали в
рассказе
«Персональное
дело»
Оказалось,
что в далёком
дагестанском
городе
Махачкала
Леночка
Каланджиева,
дочь члена
Союза
писателей
Георгия
Константиновича
Каланджиева
(в миру Юры, а
среди друзей
Гыры)
написала
свою редкую в
России
фамилию в
поисковике
Яндекс или,
может быть, Google и таким
образом
вышла на мой
рассказ, в
котором
упомянуто
имя её отца.
Рассказ
Леночка
прочитала, и
вот она,
новая
весточка из
давнего
студенческого
прошлого!
Вспыхнула
переписка,
телефонная
линия между
Ближним
Востоком и
Северным
Кавказом раскалилась
добела,
Леночка
взяла своего оторопевшего
предка в
охапку и
усадила в самолёт,
и я помчался
в
тель-авивский
аэропорт
имени Давида
Бен-Гуриона
встречать
дорогих и
любимых гостей.
Что сказать!
даже сейчас,
когда пишу эти
строки,
дыхание моё
прерывается,
и комок
набухает в
горле.


А
жизнь, вернее
новые
дигитальные
технологии,
ставшие
неотъемлемой
составной
частью нашей
жизни, приносили
новые
сюрпризы.
Нежданно-негаданно
судьба свела
меня с
вот
как моего
персонажа
рекомендует
«Православная
газета» Екатеринбургской
епархии в
выпуске от 13
марта 2012 года (-http://orthodox-newspaper.ru/events/at19567-):
"член
Высшего
творческого
Совета Союза
Писателей
России, член
Правления
Екатеринбургского
объединения
Союза
писателей России
Владимир
Александрович
Блинов". Владимир
Александрович
на полтора
года моложе
меня,
закончил
Уральский
политехнический
институт, по
отзывам наших
общих
знакомых был
он активным
комсомольским
деятелем,
защитил
кандидатскую
диссертацию,
стал
профессором,
а также занимается
литературным
творчеством,
написал и
опубликовал
несколько
книг.
И
вот совсем
недавно засел
писатель
Владимир
Блинов за
роман об
Артуре
Немелкове,
нашем
институтским
возмутителе
спокойствия
незабвенного
1956 года. Тогда
на
отчётно-выборной
институтской
конференции
студент и
комсомолец
Немелков
выступил со
своими пятью
пунктами
изменения
государственного
строя в СССР.
Вся
гэбшно-партийная
братия
стройными рядами
ринулась на
борьбу с
Немелковым и
«немелковщиной».
Каждую
пятницу
комитет
ВЛКСМ рассматривал
«персональные
дела»,
неблагонадёжных
безжалостно
вычищали и
изгоняли, для
выполнения и
перевыполнения
намеченного
плана срочно
была
мобилизована
армия
стукачей,
провокаторов
и других
верных
помощников
партии.
На
этом фоне
сразу
обозначилась
персона Риммы
Викторовны
Ивановой. На
конференции она
произнесла
речь в
поддержку
Немелкова,
чем сразу заслужила
доверие его
самого и
других «оппозиционеров».
Через
её-то имя с
помощью всё
того же
интернетовского
поисковика
Владимир
Александрович
Блинов и
вышел и на
мою скромную
персону, и на
мой рассказ
«Персональное
дело».
Завязалась
переписка.
Владимир Александрович
пытался
убедить меня
в том, что я
ошибся, что
ничего
такого, о чём
я написал, не
было и быть
не могло, что
разысканная им
престарелая
Римма
Викторовна
Иванова категорически
отрицает
свою
провокаторскую
роль в
рассмотрении
«персональных
дел», что
и пр.,
и пр., и пр.
Странная
наивность и
невинность:
где это
видано, где
это слыхано,
чтобы
провокатор
вот так
сразу, сам, не
подвергаясь
пыткам, а по
своей доброй
воле раскрыл
собственную
чёрную душу и
сознался в
содеянном?
А
ведь многие
свидетели,
участники и
жертвы тех
событий ещё
не перешли в
мир иной, с
ними можно
связаться,
поговорить, я
с
удовольствием
помог бы
Владимиру
Александровичу
разыскать их,
встретиться
или
списаться. Но
в его планы
такой вариант
не входил.
А
потом я
получил
письмо от
Гены Хазана.
Вот его
текст:
Дорогой
Илья!
Печальная
новость не
стало Артура
Немелкова.
По-видимому
удастся
разместить в
ЗИКе (ЗИК
аббревиатура
названия
институтской
многотиражки
«За
индустриальные
кадры». И.В.)
нижеследующий
некролог:
ПАМЯТИ
АРТУРА НЕМЕЛКОВА
Из
Челябинска
пришла
скорбная
весть: скончался
Артур
Авенирович
Немелков в
далёком
прошлом
студент и
комсомольский
активист УПИ.
В 1956 году
на
комсомольской
конференции
института
прозвучало
его
героическое
выступление.
Задолго до
Солженицына,
Сахарова,
Зиновьева,
Высоцкого,
Галича и других
правдоискателей
студент из
уральской провинции
стал
предтечей
долгожданных
демократических
преобразований
в стране. Он
требовал
установления
в
государстве
свободы
слова,
свободы
митингов,
настаивал на
проведении
альтернативных
выборов,
совершенствовании
экономической
структуры.
После
этого
легендарного
выступления
он и десятки
поддержавших
его
студентов,
мечтавших о
справедливом
устройстве
общества,
были
исключёны из
комсомола и
из института
с волчьим
билетом. Об
этих
событиях
написано в
книге
В.А.Блинова
«Немелков»,
которая
скоро
поступит в
библиотеку
УрФУ.
Травля и
преследования
не сломили
духа Артура
Немелкова. Он
отслужил в
армии, поработал
на
производстве,
получил
высшее образование.
Он,
которого
обвиняли в антикоммунизме,
до конца
жизни
сохранял коммунистические
убеждения.
Светлая
ему память!
Л.
Новиков
профессор
физтеха.
А
Бекетов
профессор,
зав кафедрой
физтеха.
В. Блинов
профессор
архитектурной
академии,
писатель.
Г. Дробиз
выпускник
УПИ, писатель.
Г. Хазан
доцент УРФУ.
Е
Горонков
профессор
архитектурной
академии.
Е.Шунько
профессор
(США).
(В
скобках
замечу, что
аббревиатура
«УрФУ» означает
«Уральский
федеральный
университет»,
т.е. новое
учебное
заведение,
возникшее на
слиянии
прежних
«УрГУ» (Уральский
государственный
университет имени
А.М.Горького»)
и «УПИ»
(«Уральский
политехнический
институт
имени
С.М.Кирова»).
Генриху
Леонидовичу
я сказал по
телефону, что
не стал бы
подписываться
под некрологом,
содержащим
фразу «Он,
которого
обвиняли в антикоммунизме,
до конца
жизни
сохранял коммунистические
убеждения», «сразу
разрушается
светлый
образ пламенного
борца с
мракобесием,
сказал я
Хазану. Вы во
всеуслышание
заявляете
городу и миру,
что они имеют
дело с
заурядным
мудаком».
Ты
прав, согласился
Гена. Я
пытался
убедить в
этом остальных
подписантов,
но они
настояли на
своём
Книгу
писателя
Блинова я
прочитал и,
посчитав
нужным
обратиться к
автору,
отправил ему,
а также Гене
Хазану
письмо
следующего содержания:
23
июня 2012 года.
Беэр-Шева,
Израиль.
Уважаемый
Владимир
Александрович!
Во-первых,
присоединяюсь
к скорби по
поводу
кончины
Артура
Немелкова.
Его
выступление
на
отчётно-выборной
комсомольской
конференции
в 1956 году
явилось
актом
личного мужества
и было
продиктовано
чувством
ответственности
за страну,
которую он
считал своей
родиной и за
судьбу
которой
радел.
В
прошедшую
среду на
радиостанции
«Эхо Москвы» в
передаче
«Особое
мнение»
ведущая Ксения
Басилашвили
попросила
гостя
Александра
Андреевича
Проханова
сформулировать
понятие «русский».
А.А.Проханов
так
определил
свой принцип
принадлежности
гражданина к
русскому народу:
«Человек,
любящий
Россию и
готовый умереть
за неё». Если
мне, еврею и
израильтянину,
позволено
высказать
моё мнение,
то для меня
Артур
Немелков, вне
всякого
сомнения, был
по-настоящему
русским
человеком.
Я
присутствовал
на той конференции,
слушал
выступление
Артура и был
свидетелем и
участником
развернувшихся
затем
баталий. Те
дни стали
поворотными
и в моей
судьбе.
В
1973-74 годах я,
молодой по
стажу
пребывания в
стране
израильтянин
был солдатом
Армии обороны
Израиля и
участвовал в
Войне
Судного дня.
Моя часть
дислоцировалась
в Синае на военной
базе
Бир-Тмáдэ. В
свободное от
исполнения
служебных
обязанностей
время я сидел
на койке, на
нижнем ярусе
трёхярусных
лежанок, над
моей головой
горела
автомобильная
двенадцативольтовая
лампочка,
подключённая
к
аккумулятору,
и при её
тусклом
свете в
толстую
«общую»
тетрадь,
привезённую
из Свердловска,
записывал
воспоминания.
Я ещё не знал,
что буду с
ними делать,
но прожитые годы
просили,
требовали
слова, и я
подчинился этому
требованию.
После
демобилизации
случай свёл
меня с русским
эмигрантом,
приехавшим
из ФРГ, Васей Чекарлеевым,
ответственным
секретарём журнала
«Посев»,
органа Союза
русских
солидаристов,
и я вручил
ему мои записи.
Вскоре в
журнале, в
нескольких
его номерах с
продолжением,
появилась
моя статья «О
событиях в
Уральском
политехническом
институте».
Оказалось,
что на Западе
об этих
событиях
ничего не
писалось и не
сообщалось,
следовательно,
я стал
первым,
произнесшим
имя Артура
Немелкова
для мировой
общественности.
Как
говаривалось
в незабываемом
нашем
прошлом, это
вызывает у
меня «чувство
глубокого
удовлетворения».
А
вот теперь
вышла Ваша
книга. Она
уже стала
фактом Вашей
биографии и
биографии
Артура
Немелкова.
Достойный
памятник
закончившему
жизненный путь
«герою нашего
времени», да
будет благословенна
его память.
Владимир
Александрович,
я прочитал
журнальный
вариант
Вашей книги в
«Урале»
http://magazines.russ.ru/ural/2011/7/bl7.html.
Публикации
предшествовала
наша короткая
содержательная
переписка. Я
благодарен Вам
за то, что Вы
нашли нужным
высказать
мне Ваши
сомнения ещё
во время
работы над
рукописью и
отнеслись с
должным
вниманием к
моим доводам.
Я не смог Вас
переубедить,
и Вы отразили
на страницах
книги правду
в Вашем
понимании. Это
нормально,
естественно.
Несколько
пренебрежительное
упоминание в
книге моего
имени и моей
точки зрения
не изменило
моего отношения
к Вашей
работе.
Как
сообщалось в
некрологе,
опубликаованном
в «ЗИКе»,
вскоре книга
появится в
продаже. И с
этим я Вас
искренне
поздравляю.
У
меня нет
никакого
желания
публично
полемизировать
с Вами по той
причине, что
мы находимся
в слишком
неравных
«весовых
категориях».
Я не только
непосредственный
свидетель, но
и участник
событий, о
которых Вы
знаете лишь
понаслышке и
судите о них
«из
прекрасного
далёка»
протяжённостью
более чем в
полвека. То,
что я испытал
на
собственной
шкуре, что
ломало и
курочило
меня
морально и
физически,
крушило моё настоящее
и будущее в
течение
многих лет изо
дня в день по
двадцать
четыре часа в
сутки, для
Вас всего
лишь «сюжет
для
небольшого рассказа».
Мне ли
доказывать
Вам мою
правоту? Да и
доводы Ваши,
изложенные в
книге, настолько
беспомощны,
что
возражать им
бессмысленно.
Вам
довелось
встретить
героиню
нашего с Вами
эпистолярного
творчества
на закате её
жизни. Вас
удивила «прекрасная
память»
Вашей «немолодой
спутницы и ее
звонкий
девический
смех» Вам
почему-то не
показалось
странным
следующее
обстоятельство:
сразу после
нашумевшей
конференции
настало
время
неминуемой
расправы над
всеми студентами
и
преподавателями
института,
осмелившимися
высказать
взгляды,
схожие со взглядами
Артура
Немелкова.
Изгоняли из
комсомола, из
партии, из
института
всех, всех, всех!
за одним
единственным
исключением:
преподаватель
основ
марксизма-ленинизма
Римма
Викторовна
Иванова
сохранила не
только должность
на одной из
самых важных
идеологических
кафедр, но и
пост
ЗАМЕСТИТЕЛЯ
СЕКРЕТАРЯ
КОМИТЕТА
ВЛКСМ
Уральского
политехнического
института. Вы
же сами
пишете в
заключительной
главке: «Припомнила
она и некоего
студента И.,
которого
отстаивала
перед
Евгением
Казанцевым в
комитете
комсомола».
Кто
отстаивала
в комитете
комсомола?
Она, выступившая
с трибуны
конференции
в поддержку
взбунтовавшегося
антисоветчика?
Да в тот
момент, когда
пламенный
оратор Римма
Викторовна Иванова
сошла с
трибуны
конференции,
к ней должны
бы были
подойти два
красивых
охранника и
под белы
ручки
препроводить
её «из Сибири
в Сибирь». А
вместо этого
«отстаивала
перед
Евгением
Казанцевым в
комитете комсомола»!
Уважаемый
Владимир
Александрович,
наша с Вами
знакомая
Римма
Викторовна
Иванова была
провокатором
умным,
обаятельным,
профессиональным.
Об этом знали
не только я и
мой товарищ
Сашка
Фискинд,
первый
сообщивший
мне об этом
(из Вашего
письма: «Кстати,
откуда Сашке
Фискинду
было знать, что
именно ОНА
всех
заложила?»),
об этом знали
все те
студенты, чьи
персональные
дела вела
член
комитета
ВЛКСМ Римма Викторовна
Иванова. А
кáк она их
вела, рассказано
в непроцитированной
Вами части
моего
рассказа «Персональное
дело».
О
провокаторах,
как и о
героях,
следует писать
(если это
ДОСТОВЕРНО
ДОКАЗАНО). Я
придерживаюсь
этого
правила.
Можете
почитать, если
Вам
интересно:
«Персональное
дело»,
«Заслуженная
награда»,
«ЧП»,
«
кто смеётся
последний?»,
«Мутант».
Уважаемый
Владимир
Александрович!
Поверьте, у
меня нет
желания
выносить на
публичное
обсуждение
мелкое наше с
Вами
несогласие о
роли
отдельно
взятого
персонажа в
истории
мировой
цивилизации.
Письмо это
посылаю Вам и
другу моему,
а также
Вашему
знакомому,
профессору
Генриху
Леонидовичу
Хазану. Много
лет знаю его,
ценю и люблю.
В те нелёгкие
институтские
годы он, в
числе
очень-очень
немногих, не
побоялся
водить со
мной дружбу,
подавать
прилюдно
руку, а для
такого
поведения
требовалось
мужество. До
сих пор мы
поддерживаем
добрые
отношения,
переписываемся
и
перезваниваемся,
и это, к
сожалению,
всё. Очень
хочется мне
принять Гену
в моём доме в
Израиле,
обнять,
прижать к
сердцу.
Однако, он, по
его словам,
привык к
своему дому,
к своей
постели и к
своему
стульчаку.
Печально
но,
как говорят
французы, cest la vie.
Оговорюсь:
если Вы сами,
по зову
собственной
души,
руководствуясь
принципом,
ошибочно
приписываемым
Вольтеру, «I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right
to say it» («Я не
одобряю того, что вы говорите,
но до
смерти буду
защищать Ваше право высказаться»)
если Вы сами,
по зову
собственной
души, решите
предать моё
письмо
огласке, я
возражать не
стану.
Если
Вас, Владимир
Александрович,
судьба
занесёт в
наши
палестины,
рад буду встретиться
с Вами,
посидеть,
поговорить
(ведь есть о
чём! не так ли?).
Я в последние
годы пристрастился
к греческой
анисовой
водке «UZO»,
рекомендую,
отменный
напиток. В
былые времена
русские
аристократы,
сосланные за
неблагонадёжность
на Кавказ,
употребляли
анисовые
настойки и
напитки. Вот
и я пью
анисовую
водку «UZO» и мню себя
русским
аристократом,
сосланным за
неблагонадёжность
на Кавказ.
Удивительное
ощущение! А
что
предпочитаете
Вы?
Ещё
раз
поздравляю
Вас с выходом
книги. Всего
Вам доброго.
Ваш
![]()
Ответа
на это письмо
от Владимира
Александровича
Блинова я
долго не
получал,
решил, что и
не получу. И
вот, по
прошествии
трёх с половиной
месяцев,
сегодня, 9
октября 2012
года, я обнаружил
в моей
электронной
почте такое
послание:
Илья,
спасибо Вам
за искреннее,
правдивое письмо.
Электронной
почтой я
пользуюсь
только через
своего сына,
поэтому и
затянул с ответом.
А поговорить
неспешно
есть о чём. Вот
уже нет на
этом свете ни
Артура
Немелкова, ни
Риммы
Викторовны
Желаю Вам
всяческих
успехов в
жизни, в
творчестве, в
интересных
людях. 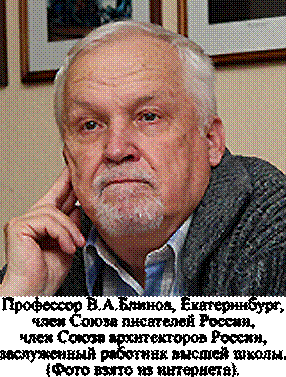 С
уважением и
благодарностью
за участие в "Немелкове".
Владимир
Блинов.
С
уважением и
благодарностью
за участие в "Немелкове".
Владимир
Блинов.
Подумать
только:
ответил! Три
с половиной месяца
размышлял,
взвешивал и
ответил.
А я
задумался
Владимир
Александрович
начал
учиться в
институте,
когда ещё
продолжалось
шельмование
Артура Немелкова
и иже с ним.
Слушались
персональные
дела.
Принимались
решения: "исключить"
"не
исключить".
Комсомольским
активистам,
среди которых
был и студент
В.А.Блинов,
следовало принимать
участие в
голосованиях
и решать судьбы
многих.
Сомневаюсь,
что кто-либо
из участников
таких
судьбоносных
экзекуций хотя
бы
воздерживался,
не поднимая
руку ни «ЗА!», ни
«ПРОТИВ
». Ведь
мы помним те
времена, ведь
мы понимаем,
даже знаем
наверняка, что
ТАКОЕ
голосование
было бы для
него последним,
а на другом
ближайшем
комсомольском
сборище его
персону
ставили бы на
голосование:
"исключить"
"не
исключить".
И
вот теперь,
по
рекомендации
«Православной
газеты»
Екатеринбургской
епархии,
"член Высшего
творческого
Совета Союза
Писателей
России, член
Правления
Екатеринбургского
объединения
Союза
писателей
России
Владимир Александрович
Блинов"
становится
автором
панегирика
Артуру
Немелкову и
защитником
провокатора
Риммы
Викторовны
Ивановой. Случайно
ли это?