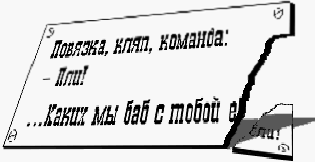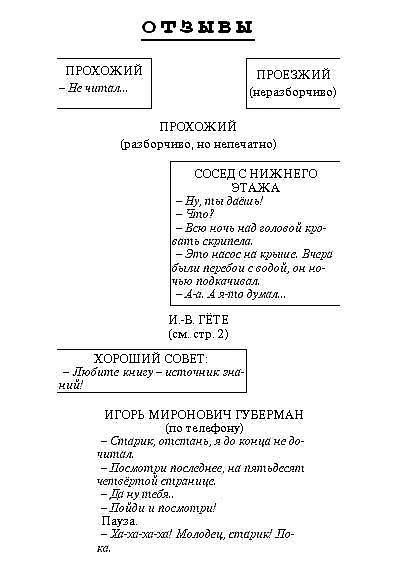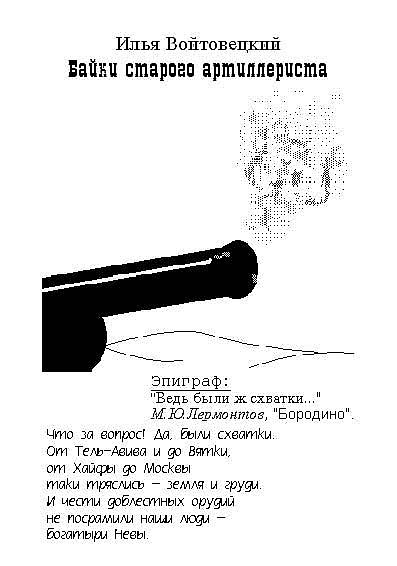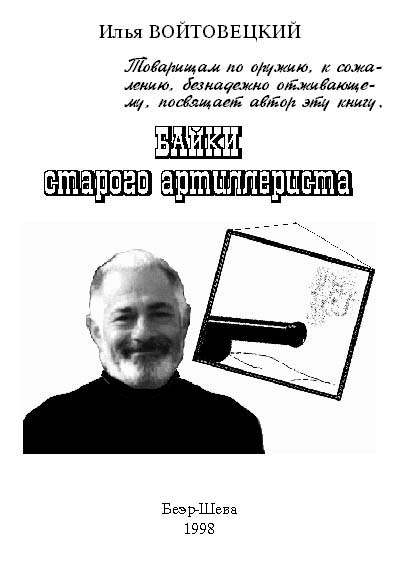
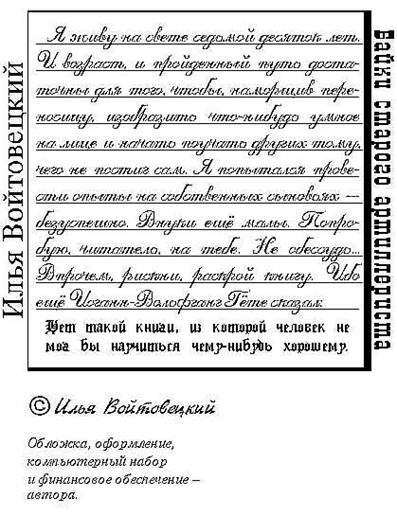
старый артиллерист
Я все мосты сжигаю за
собой,
шепчу проникновенно:
– Дорогая...
Горит костёр, нежарко
догорая.
Трубит Трубач.
Сегодня грянет бой.
Мне не впервой вести
огонь по целям.
Без лишних слов я запалю
фитиль.
(Быть может, время пушку
сдать в утиль,
но и утиль порою
драгоценен.)
Намётан глаз у старого
стрелка,
и цель ясна, а также
степень риска.
Не дрогнет ствол в руке
артиллериста.
Дай Бог, чтобы не
дрогнула рука.
![]()
![]()
![]()
Раскрыты окна.
Птичий гам и спор там.
Но я сосредоточен, глух
и нем.
По вечерам я занимаюсь
спортом,
слежу за весом и почти
не ем.
Я буду делать так зимой
и летом,
не пропустив ни вечера,
ни дня.
Я похудею,
стану я атлетом,
чтоб женщины смотрели на
меня.
Я был в моём решении
свободен,
когда взвалил на плечи
этот труд.
Я стану длинноног и
узкобёдер,
а также строен и
широкогруд.
А чтоб одна достойнейшая
lady
решила, что теперь я ей
под стать,
перелистав тома
энциклопедий,
я стану эрудицией
блистать.
Чтоб избежать упрёков
или жалоб,
хочу снискать
расположенье муз.
Мне в банке счёт открыть
не помешало б,
но этим я впоследствии
займусь.
![]()
![]()
![]()
Небо хмурилось осенне,
отражался берег рыже,
я на катере по Сене
плыл. Я был тогда в
Париже.
Путь от Эйфелевой башни
пролегал Нотр-Дама мимо.
Я с француженкою шашни
заводил довольно мило.
Катер к пристани
причалил,
ветер стих, и стало
жарко.
– Отчего месье печален?
–
вопрошала парижанка.
– О, мадам! – сказал я
даме,
оборвав на этом фразу.
Вот и всё. А больше там
я
не бывал.
Совсем.
Ни разу.
P.S.
Иногда доходят вести,
что Париж стоит на
месте,
и по-прежнему степенно
отражает берег Сена,
а подружка-парижанка
замуж выскочила.
Жалко...
ЖЕСТОКИЙ РОМАНС
(Исполняется солистом и
хором цыган
в сопровождении
семиструнной гитары)
Нам с тобой не стоять
под венцом,
Мне не быть твоим детям
отцом,
И моих ты не будешь как
мать
К материнской груди
прижимать.
Ты не будешь к груди
прижимать.
Мы не пара с тобой, не
чета.
Всё исчезнет: любовь и
мечта.
И однажды, под солнце
ль, под дождь,
Ты меня хоронить не
пойдёшь.
Ты за гробом моим не
пойдёшь.
Над могилой моею не ты
Будешь слёзы ронять на
цветы.
Не кори понапрасну
судьбу:
Ты меня не увидишь в
гробу.
Не меня ты увидишь в
гробу.
(Медленно затихая,
звучит продолжительный аккорд
гитары.
Цыгане вздыхают.
Евреи плачут.
Антисемиты радуются.
Народ безмолвствует.)
ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ,
написанные мной и моею
женой
одновременно и
независимо друг от друга
первое – моё
Я иду, по сторонам
глазею,
околдован юною луной.
Словно после стирки
бумазею,
растянули небо надо
мной.
Прекратился дождь.
А луж-то, луж-то!
В каждой по звезде и по
луне.
Молодая милая хохлушка
что-то на ушко шепнула
мне.
Слушаю – и от блаженства
таю,
грудь её держу в моей
руке,
а вокруг меня Земля
Святая
и наверно рай невдалеке.
второе – её
Мне сегодня дома не
сидится.
Убегу от повседневных
дел.
Звёздно-синий парашют из
ситца
над моею головой
взлетел.
Он да я.
Между собой гутарим.
Я забыла и семью, и дом.
Молодой задумчивый
татарин
грудь мою вобрал в свою
ладонь.
Что за ночь!
Блаженствую и таю.
Звёздный мир двоится в
блестках луж.
А вокруг меня Земля
Святая,
да в постели дома старый
муж.
![]()
![]()
![]()
Я ближе к финишу, чем к
старту,
но вроде всё ещё в
строю,
и этот день – 8 марта –
я отмечать не устаю.
Всё отмечаю, отмечаю –
за Маш, Наташ, за Лиз и
Люсь,
заем селёдкой, выпью чаю
и вновь отметить
тороплюсь.
![]()
![]()
![]()
Сказала:
– Приходи на чай!
А может – это невзначай.
А может – это всё
пустяк.
А может – это просто
так.
А может – накатила
грусть.
Всё может статься,
ну и пусть!
Я с ней почти что
незнаком –
пойду, побалуюсь чайком.
Решил.
Отправился.
И что ж?
Чай был воистину хорош!
Наутро, как бы
невзначай,
шепнула:
– Приходи на чай...
Средь степей, лесов,
морей –
каждой женщине моей.
(лирические куплеты под
гармошку)
Не ревнуй, не злись, не
сетуй,
знаю: мне гореть в аду,
я люблю и с той, и с
этой,
и – тебя не обойду...
Но – ревнуй и злись и
сетуй,
воскресай и умирай:
я побуду с той и с этой,
и – с тобой отправлюсь в
рай.
В небе месяц, как
подкова,
мне на счастье ль, на
беду...
Полюби меня такого
или – я к другой пойду.
почти юбилейное
Пока живу, пока дышу –
и весело, и путано,
пристрастен я к
карандашу
или – верней – к
компьютеру.
И, уповая на
"авось",
ленивый и расхлябанный,
несу свой крест, везу
свой воз,
кручу с чужими бабами.
Слова, слова:
"везу", "несу", –
что крест нести! что воз
везти! –
Вот день рожденья на
носу,
а я в преклонном
возрасте,
а я душой и телом слаб
(хоть есть ещё и пыл и
зуд),
но всё смотрю, смотрю на
баб,
пока глаза не вылезут.
![]()
![]()
![]()
В пустыню или в заросли,
пожалуй, я б позарился,
но все твердят о
старости,
и я – из чувства
стадности.
Проходит мимо девочка,
совсем проходит
рядышком,
а я поглажу темечко
и жмусь поближе к
бабушкам.
Проходят мимо бабушки,
глядят в стекло оконное.
Проходят – ну и ладушки:
есть у меня законная.
В пустыню или в заросли,
пожалуй, я б позарился,
но все твердят о
старости,
и я – из чувства
стадности.
![]()
![]()
![]()
Я иду – чуть-чуть
сутуловатый,
лысоватый – словно весь
из ваты.
Без конца мои аксессуары
мне твердят, что их
владелец – старый:
где бугрились мускулы –
там складки,
горько то, что прежде
было сладким,
где была прямая, там
кривая,
солнце греет – да не
согревает,
солнце светит – да
линяет краска...
Только это присказка –
не сказка.
Ну, а сказка проплывает
рядом.
Ну, а глазки завлекают
взглядом.
Как идёт, как выставляет
ножки! –
будто бы сошла с
суперобложки!
Чувствую, как тает лет
обуза,
и невольно втягиваю
пузо.
Набухают мускулы под
кожей,
и искрится день – такой
погожий!
Здравствуй, сказка!
Возвращайся, юность!
Вот она прошла –
и(!) – оглянулась(!).
Оглянулась...
посмотрела странно...
Дескать, я – не из её романа.
Вот и всё.
И сказка отзвучала.
(Можете читать её с начала.)
УТРЕННЯЯ БЕСЕДА
Встану рано поутру.
Во дворе ли, в хате ль –
крякну, плюну, разотру:
– Не горюй, приятель!
Мол, ещё не кончен бой,
каждый бодр и боек!
Сколько нам годов с
тобой
на двоих-обоих?
Чем шататься по полям,
ждать-пождать погоды,
раздели-ка пополам
сложенные годы!
Кто б ни глянул издаля –
не в лицо, а в спину –
согласился б: ты да я
молод вполовину.
Брось ты это: хлюп да
хлюп –
шмыгать носом слабым.
До чего мы – каждый – люб
незамужним бабам!
Приударить не забудь,
цель не борт, а луза!
Разведи-ка шире грудь,
подбери-ка пузо!
Затяни – я подтяну
сбивчиво, но бойко.
Причеши-ка седину,
лысину прикрой-ка!
Так с утра – от "а"
до "б"
и от "тав"
до "алеф"*
толковал я сам себе,
славно погутарив.
*от "тав"
до "алеф"
–
"тав"
– последняя буква
еврейского алфавита,
"алеф" – первая.
красивой солдатке,
с которой я ехал
22 ноября 1996 года
рейсом 380
из беэр-шевы
в тель-авив
В прищуре твой белок
голубоват,
глубок зрачок, изогнуты
ресницы.
Мне профиль твой ночами
будет сниться
(в чём я, поверь, совсем
не виноват).
Под завитком, в дрожании
луча,
пульсирует взволнованная
жилка.
Щеку щекочет локона
пружинка.
Плечом касаюсь твоего
плеча.
Автобус мчит. Небесконечен
путь.
И вот уже за поворотом
финиш,
и ты плечо тихонько
отодвинешь.
Кто знает – может
быть... когда-нибудь...
![]()
![]()
![]()
Преклонный возраст.
Отмирают клетки.
Болят суставы, горбится
спина.
Но всё влекут к себе
двадцатилетки
ночами, проведёнными без
сна.
Скудеет – то ли кальций,
то ли калий,
дрожат непроизвольно
кисти рук.
Ровесники уходят в
зазеркалье,
их вдовы превращаются в
старух.
Приходит день.
(Он, может быть,
последний...)
Преодолев симптом
паралича,
я, шаркая, тащусь к
двадцатилетней
походкой Леонида Ильича,
и, уповая мысленно на
чудо,
молитвенно уставясь в
потолок,
вдруг вспоминаю:
"Завтра мне к врачу
бы,
и сдать мочу – на сахар
и белок."
НОВОГОДНЕЕ
Может, горчичники, может
быть, банки,
утку да судно.
Ни тебе ёлки, ни тебе
палки –
больно и трудно.
Праздник шагает – и
грузно, и валко –
в дальние веси.
Если бы ёлку, если бы
палку,
если бы, если...
![]()
![]()
![]()
В.М.
Через десяток лет
мы встретимся, быть
может.
Я буду стар и сед,
а ты – ещё моложе.
Я буду сед да стар,
меня покинут силы.
Ты скажешь:
– Лет до ста
вы дотянули, милый!
– Вам нет и двадцати...
–
прошамкаю, помешкав.
– Вы можете идти! –
ответишь ты с усмешкой.
Ты поведёшь плечом.
С трудом я вскину веки:
– Я очень увлечён
был вами... в прошлом
веке.
![]()
![]()
![]()
Расправлю плечи, смою
бледность щёк,
хандра – лишь на смех
петухам да курам.
Мы так похорохоримся ещё
и от души с тобой
победокурим!
объяснение в любви
Пьяный, словно от вина,
я приду с охапкой сена,
попрошу, чтоб ты
присела,
чтобы хвост ты отвела.
Еле сдерживая пыл
и дыша, как после гонок,
я...
я хочу, чтоб твой
телёнок
на меня похожим был.
Сказочка про бычка,
про его хозяина Джона
и вообще – про жизнь.
Бычок любил и даль, и
ширь,
и дол, и лес, и луг, он
рогами изгородь крушил
и тёрся лбом об угол.
Лукаво глаз скосив,
пострел,
со лба откинув чёлку,
себе он тёлку присмотрел
–
затейливую тёлку!
На травку утром –
бряк-да-бряк –
пахучая лепёшка!
Он был мыслитель и
добряк
и донжуан немножко.
Но почему я слово
"был"
вплетаю в байку эту?
Да потому, что Джон
любил
гуляш, бифштекс,
котлету...
За окнами синеет лес,
к нему бежит дорожка,
и дождик моросит с
небес,
и Джон глядит в
окошко...
про корову
Я гляжу – сидит корова
на берёзе близ села.
Говорю я ей:
– Здорово!
А что ли ты с ума сошла?
Отвечает мне корова:
– Я фактически здорова,
да живёт во мне корысть –
охота яблочков погрызть.
Говорю я ей:
– Корова!
Ну, откуда ж ты здорова!
Знать, твои дела плохи –
где ж на берёзе яблоки?
Говорит тогда корова:
– Вот оттудова здорова.
Как сюда залазила,
так прихватила два узла.
Подтвердил я:
– Ты, корова,
удивительно здорова! –
поглядел, который час,
да и потопал в медсанчасть.
А спешить-то мне чего! –
ведь запись там – до вечера...
стихи
об употреблении обувной
краски
в гастрономических целях
Сказочка-не-сказочка:
пахнет за версту
обувная красочка
на спирту.
Месиво-не-месиво
булькает у рта,
ах, на сердце весело –
красота!
Выпито-замётано
до конца, до дна,
и судьба-то – вот она
вся видна.
Коечка-не-коечка,
доски в полный рост.
Увезли покойничка
на погост.
Так ли было? иначе? –
только срам и стыд:
модные ботиночки –
бледный вид.
Облупилась красочка,
поналипла пыль.
Сказочка-не-сказочка,
быль-не-быль.
Грустные размышления
во время очередного
пребывания
в местном дурдоме
Живу, не мудрствуя
лукаво,
весь день молчком,
подобно пню.
Пью кофе, хоть люблю
какао,
а водку не люблю, но
пью.
Задумаюсь, и не до
смеха,
всё мимо: чин,
богатство, сан.
Вот крыша вздумала
поехать –
чего вздыхать по
волосам!
А бабы: сотню б на
неделе,
а после – хоть гореть в
аду!
Но получается на деле:
своя, и только раз в
году...
Вся жизнь – одно
сплошное ретро.
Душа кричит:
– Усни, забудь!
...Пойти б разжиться
сигаретой
да медсестру схватить за
грудь...
И так всегда одно и то
же,
вот оттого грущу в
тоске.
Соседу говорят: –
Серёжа, –
а он философ
Монтескье...
Не жизнь, а лишь одно
названье,
чередованье дрём и драм.
Меня тут называют: Ваня.
Но я то знаю, что
Абрам...
Лежу ничком, ногой
качаю,
медбрат-громила тут как
тут.
Вот: предлагают выпить
чаю,
и, может, сахару дадут.
Живу, не мудрствуя
лукаво,
всё глубже омут, зыбче
дно.
Не пью ни кофе, ни
какао,
а чай – название одно...
![]()
![]()
![]()
Сплю на полу в углу, в салоне.
За домом луг.
Там бродят кони.
Я слышу рядом стон – с дивана,
где с пышным задом Дона Анна.
Гляжу, а Дона бездыханна
от ласк подонка Дон-Хуана.
Известно: СПИД давно у Дона.
Он с Доной спит, но без гондона,
вред нанося своей любовью
её бесценному здоровью.
Луна взошла на небосклоне.
Прощальный луч скользнул по крышам,
окрасив предзакатно-рыжим
салон и луг.
Там бродят кони.
И конские хвосты и шеи
и сами кони порыжели.
А на диване Дон и Дона
и кончик Дона без гондона
объяты сказочным свеченьем
в луче торжественном вечернем.
День пролетел.
Закончил день я
в углу на коврике салонном.
Я был не рыжим, а зелёным. –
Ведь я дальтоник от рожденья.
Случай из жизни
Рыжее небо во время
заката,
рыжая девка, к тому же
брюхата,
рыжий автобус
и рыжий мужик –
он за автобусом рыжим
бежит.
Небо подёрнулось серою
дымкой.
Девка брюхатая стала
блондинкой.
Ну, а автобус ушёл с
мужиком,
скрывшись из виду за
сизым дымком.
Быстро стемнело, и
вспыхнули окна.
Дождик закапал, и девка
промокла.
Ну, а поскольку кругом
темнота,
мне показалось, что
девка не та.
Я подхожу, мне проверить
охота.
Басом она обращается:
– Кто ты?
Я в темноте обознался
совсем:
это мужик,
он в автобус не сел.
НЕПОНЯТНЫЕ СТИХИ
Руки мне заломив за спину,
притащили меня, голого,
распрямился палач заспанный
и легко мне отсёк голову.
Подобрали мою голову
и обтёрли её дочиста,
завернули меня, голого,
имя вывели и отчество.
Был рассвет, пал туман, росы ли,
или воды текли талые.
А меня увезли, бросили
и уехали, оставили.
Я нащупал мою голову,
невредимой нашёл поутру,
поглядел на себя, голого,
почесал пятернёй бороду.
На простынке лежим белой мы,
пятки ты завела за спину.
Вроде всё по-людски делаем,
а за дверью палач заспанный.
![]()
![]()
![]()
В краю неувядающих
бананов,
в краю неунывающих
баранов,
в краю преуспевающих
ослов
жить хорошо –
без дел,
без дум,
без слов.
Цветёт душа и хорошеет
тело
без слова
и без думы
и без дела.
Ослы
и человеки
и бараны
жуют себе бананы,
жрут овсё –
и всё!
![]()
![]()
![]()
Не бывал я на
Мадагаскаре,
не бывал.
Говорят, что там вода да
скалы,
волн обвал.
Говорят, у негров там
оскалы –
жемчуга.
Этих негров на
Мадагаскаре
до фига!
Заплетают негры жёнам
косы
в дивный ряд
и на память дарят им
кокосы –
говорят.
Говорят, там страстные
туземки –
высший класс! –
за рубли, за шиллинги,
за центы –
всё для вас.
Подступает грусть порой,
тоска ли –
кончен бал.
Почему ж я на
Мадагаскаре
не бывал?
Чаяние
Печальный начальник –
начальный печальник
пустыми речами меня не
мочалит.
Он молча чадит, он
читает за чаем
да смотрит на чаек,
качая плечами.
То к вечеру тучи, и
ветер крепчает,
то утро врачует, венчая
лучами,
то петли дверные ворчат
и судачат,
что все домочадцы ночуют
на даче.
Печальный начальник –
начальный печальник
читает,
чадит
и плечами качает.
CREDO
И друзьями я богат, и
врагами,
и красна моя изба
пирогами.
Головою я силён да
руками.
Не люблю я подлецов с
дураками.
Таково моё житейское
Credo,
а о прочем пусть душа не
болит, но
позовут меня друзья – я
приеду,
лишь была бы наготове
поллитра.
Ну, а если её нет, это
значит:
я могу поставить сам –
из заначек,
выпью с другом и скажу
я:
– Да чо ты!
Разве могут между нами
быть счёты!
ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ
о зависти человеческой
и о подлости
Не важен день, не важен
год,
и даже век не важен,
а просто скажем:
жил-был кот –
кот полосатый, скажем.
Ещё поведаем о том,
что жил он в пункте
энном,
а в остальном – он был
котом
вполне обыкновенным.
На крышу бегал по весне,
отбросив все приличья,
о кошке рыжей лишь во
сне
мечтая и мурлыча.
Вот наступила темнота,
и поманила крыша...
Но встретил нашего кота
водопроводчик Гриша.
Он шёл с поникшей
головой,
выплескивая ругань,
поскольку выгнала его
на улицу супруга.
И позавидовал коту
он в мыслях нехороших
за гладкий мех, за
красоту
и за успех у кошек.
А сам, имея красный нос,
пил, погрузившись в
горе.
И к собутыльнику понёс
кота подлец Григорий.
Тот был и
врач-ветеринар,
и живодёр отчасти.
Воскликнул доктор:
– На хрена
коту такое счастье!
Он тоже был не Бог весть
кто –
без единички нолик.
И вот расправился с
котом
презренный алкоголик.
За самым дальним гаражом
отрезал, матом кроя,
обычным кухонным ножом
он яйца у героя.
С тех пор проносятся
года
над опустевшей крышей,
но кот не выйдет никогда
к любимой кошке рыжей...
![]()
![]()
![]()
Ношу улыбку на губе –
я беспричинно весел.
Сосед играет на трубе –
сидит и ножки свесил.
Под снегом крыши и сады,
туман окутал речку,
а над трубой клубится
дым –
соседка топит печку.
Сосед играет на трубе –
он примостился с краю.
Я б тоже мог, да вот
сробел –
и на крыльце играю.
...Летят снежинки –
на губу,
на волосы, на крышу.
Я вижу крышу и трубу.
А где сосед?
Не вижу.
![]()
![]()
![]()
Под ногтями грязновато,
щёки в крапинках прыщей,
и торчит клочками вата
из невымытых ушей.
Весь в долгах – и нет просвета,
пьян всегда – в мороз и зной, –
но, наверно, не за это
бабы бегают за мной.
Дело, видимо, не в роже,
это ясно и ежу.
Но за что же? Но за что же? –
Сам ума не приложу.
Говорят, я непроворен,
тугоух, не зорок глаз.
Да ведь бабы смотрят в корень.
Значит, корень в самый раз.
![]()
![]()
![]()
Соседки смотрят из окошек,
ругаясь руганью несносной.
Мой пёс облаивает кошек,
он кошек ненавидит, пёс мой.
Что за обычаи и нравы,
особенно в ночное время!
Мой пёс неправ, соседки правы,
а кошки влезли на деревья.
Рассыпаны над головою
звёзд бриллиантовые крошки.
Я по-кошачьи в голос вою.
А пёс-то думает, что кошки...
![]()
![]()
![]()
Эпиграф:
"Иду в аптеку за лекарством"
Давид Лившиц.
Не посыпаю раны солью,
друзьям не вешаю лапшу,
в аптеку не за колбасою,
а за лекарствами спешу.
Спасение для человека
против болезней, вшей и
блох,
её ещё в начале века
воспел небезызвестный
Блок.
Дул в спину
петербургский ветер,
серчал разбуженный
Борей,
а Блок под фонарём
приметил
её на улице своей.
О людях думал: дескать,
им вон,
когда вокруг царит
бордель,
нужна аптека, словно
символ,
убежище и цитадель.
И Блок уверовал враз:
сила –
и наша новь, и наша
старь,
и, значит, будут жить –
Россия,
аптека, улица, фонарь...
Смахнул слезу рукой с
ланит он
и гордо поглядел во
тьму.
Хоть Блок и был
антисемитом,
я всё готов простить ему
за то, что он в начале
века,
за много лет до Октября,
заметил: улица, аптека
и всё вокруг – до фонаря.
...Соринку стряхиваю с
кипы,
воспринимаю явь как сон.
Я вижу: прибывают скифы
в конце столетия в Сион
в содружестве российских
наций,
не затаив на сердце зла.
Их много больше, чем
двенадцать.
Они грядут.
Им несть числа.
![]()
![]()
![]()
Не возражайте, милые, не
спорьте.
Ещё держусь на чёрте-чём
и спорте,
да чёрте-что уже совсем
не то.
Я объясняю однолеткам
хилым,
что надо умываться
хвойным мылом
и – если ветер –
надевать пальто.
Я знаю сам, что нужно
торопиться,
поскольку чёрте-что – уже
тряпица,
а коли так, то жизнь уже
не жизнь,
да вот пройдёт под
окнами юбчонка,
вильнёт хвостом, и я
вздохну о чём-то
и думаю мечтательно:
"Держись!"
А чтобы мысли глупые не
лезли,
наперекор погоде и
болезни
и вовсе невзирая на
года,
я, не гнушаясь крепкими
словами,
мой чёрте-что пошлю к
такой-то маме
и отправляюсь сам –
чёрте-куда.
Да!
Не возражайте, милые, не
спорьте.
О чём мои стихи? Они – о
спорте
и ни о чём конкретном
вообще.
Чтоб дольше жить и не
казаться хилым,
полезно умываться
хвойным мылом
и – если моросит –
ходить в плаще.
![]()
![]()
![]()
Выл мой кобель.
Выл мой кобель-подонок,
и вой был и пронзителен,
и тонок,
кобель мой раскалился
добела.
Ах, что за вой! В нём
были боль и мука.
А у соседей проживала
сука,
и течка у неё в тот день
была.
А за стеной, то жалобно,
то люто
стонала сука,
и звенела люстра,
и угрожал подвыпивший
сосед.
Он намекал на
нравственность и нечто.
Но день прошёл, и
прекратилась течка,
и сам собой скандал
сошёл на-нет.
ПРО ЧЁРТА
В нашем крае очень слабы
старики и молодёжь.
Каждый год рожают бабы,
от кого – не разберёшь.
Чёрте-что твердит молва. –
Кругом ходит голова...
Чёрт мутит деревню нашу,
носит он портфель в руке.
Чёрт из дёгтя варит кашу
по утрам на бугорке.
Варит чёрт, поёт о чём-то,
поминая в песне чёрта.
Очень любит чёрта чёрт.
А внизу река течёт.
По-простому и по фене –
может чёрт и так, и так.
Носит чёрт в своём портфеле
завалявшийся пятак.
Он заходит в лавку к Кате,
лезет к Кате в закрома.
А уйдёт – и не заплатит,
всё стремится задарма.
И зачем ему пятак?
Говорят, что просто так.
В нашем крае этот чёрт
знает всех наперечёт.
А в портфеле для учёта
бланки разные у чёрта.
Ночь. Во тьме собака лает,
но у чёрта страха нет.
По деревне чёрт гуляет,
наших девок трахает
и разносит по анкетам
все подробности об этом.
Чёрт сидит на бугорке,
держит он портфель в руке,
заполняет бланки чёрт,
а внизу река течёт.
КОР ОТ ЫШКИ
![]()
![]()
![]()
На нашей границе стоит
часовой.
Он очень гордится
Отчизной своёй.
![]()
![]()
![]()
Шепнула жертва палачу:
– Руби, ведь я за всё
плачу...
Сказал палач, ощерив
рот:
– Чур, только денежки
вперёд!
![]()
![]()
![]()
Мне всяко дело по плечу:
вот захочу – и полечу.
Скорей всего не захочу.
Не захочу – не полечу.
![]()
![]()
![]()
Однажды в театре La
Scala
сопрана гримёра ласкала,
а после счастливый
гримёр
от ласк непомерных умёр.
Всегда получаются
странными
романы гримёров с
сопранами.
![]()
![]()
![]()
"И город дрянь, и речка
сволочь."
Строка частного письма из Минска.
I
НОЧНАЯ ПРОГУЛКА
Бреду, таращась на дома,
я переулками кривыми.
В витринах свет, в квартирах тьма,
а город спит и словно вымер.
Нет, он не вымер, он притих,
сомкнув натруженные вежды.
Со всех пижонов и франтих
на время сброшены одежды.
А ночь перетекает в рань,
а годы утекают в нети,
уже кончается февраль
и завершается столетье.
Смахну задумчивость со лба,
истому изгоню из тела
и задержусь вблизи столба,
поскольку писать захотел я.
Под глазом ощущаю тик,
в душе надлом, на сердце смута:
в пяти шагах пижон франтих
склоняет весело к чему-то.
Я обмер с головы до пят,
поскольку вижу всё воочью,
поскольку думал: люди спят
такой февральской тёмной ночью.
Внезапно, словно под лучом,
мелькнула перед взором фраза:
"И город дрянь..." – да я о чём?
"...и речка сволочь."
Вот зараза!
Нет-нет, я не схожу с ума,
и крыша не сползает с дома.
Строка – из одного письма,
пришедшего из-за кордона.
Мой город – не чета тому,
и не бывает общих формул.
Унынье, прочь!
И я во тьму
стряхнул и молнию задёрнул.
II
ОТПОВЕДЬ
некоего Президента,
получившего по своим
каналам
копию вышеупомянутого
письма.
Нет, не дрянь этот
город, не дрянь.
Он вставал в
предрассветную рань,
и стоял терпеливо
молчком
он за хлебушком и
молочком.
Да и речка не сволочь
была,
отмывала она добела.
В том вина не реки, не
реки,
что неладно её нарекли.
И не знали бы люди беды,
да наехали в город жиды,
и с той самой поры что
ни год –
недород, недород,
недород...
А жиды – те себе на уме:
запасутся свининкой к
зиме,
кормят ею детей и внучат
–
и ворчат, и ворчат, и
ворчат...
"Город дрянь, –
только слышно в толпе, –
речка сволочь..."
т.д, и т.п.,
ну, а город и речка –
оне
очень нравятся,
граждане, мне...
СЛАВЯНСКАЯ МАДОННА
Коробейник
приходил до дивчины,
коробейник
дивчину любил.
Он
дарил ей кружева да лифчики,
целовал
под небом голубым.
В
зарослях полыни и репейника,
наглотавшись
зелья,
как-то
раз
парубки
убили коробейника.
Вот
и весь нехитрый мой рассказ.
Я
не стал бы головы морочить вам,
если
б не молва про то село:
в
нём зачатье очень непорочное,
как
ни странно, вдруг произошло.
Пробавляясь
притчами да сказками,
говорили
жители села:
–
Не кохана дивчина, не ласкана,
а
гляди – жидёнка родила!
![]()
![]()
![]()
В корчме без дел в одном
селе
мой друг сидел навеселе.
Сказал мой друг:
– Иду домой,
гляжу вокруг, а дом не
мой,
не мой комод, кровать,
плита,
я сам не тот, жена не
та,
не те луга, и снег, и
зной,
страна другая, век иной,
не та, что встарь, луна
дрожит.
Но вот корчмарь – всё
тот же жид.
![]()
![]()
![]()
Лиловое солнце катилось
по жёлтой фланели,
на грядке синели редиска
и лук, и укроп.
Мы жить в этом мире
пока что совсем не умели,
мы только учились ценою
ошибок и проб.
Всё было в новинку.
Нам грезились годы и мили,
и птичьи базары, и взоры
невиданных див.
Нам всё предстояло.
Но в дверь в этот миг позвонили:
явился дежурный
сантехник, меня разбудив.
Унылое утро сочилось в
немытые стёкла.
Под весом моим
заскрипела протяжно кровать.
Я сел и увидел,
что дождь,
и что крыша намокла,
и в шлёпанцы влез,
и отправился дверь открывать.
![]()
![]()
![]()
Предстану пред...
Печально скажет,
и внемлю я Его речам:
– Ты прожил жизнь.
Наверно, гаже,
чем жизнь, ты в жизни не
встречал.
А я в ответ воскликну:
– Разве!
Смиренно наклоню чело.
– Я всё изведал. Но
прекрасней,
чем жизнь, не видел
ничего.
Прости, что не сдержал я
нрава,
прости и снизойди с
высот.
– Тебе налево, Мне
направо, –
надменно Он произнесёт.
А может, гнев сменив на
милость,
Он усмехнётся грустно в
ус:
– Да это всё тебе
приснилось.
Пора вставать. –
И я проснусь.
Проснусь, увижу свет в
окне.
И Женщина прильнёт ко
мне.