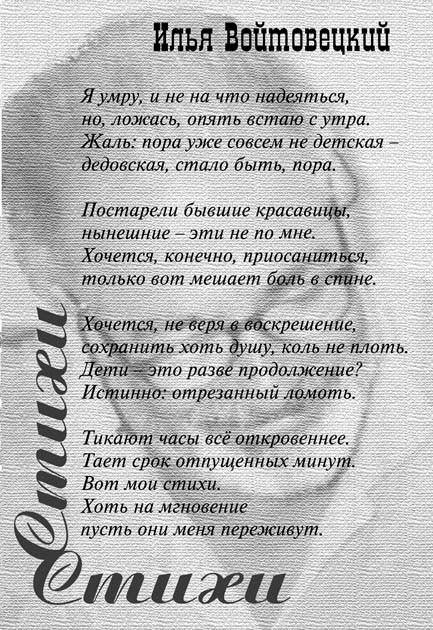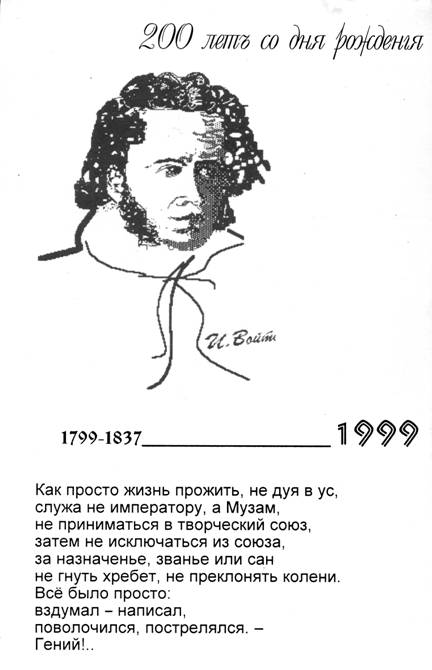
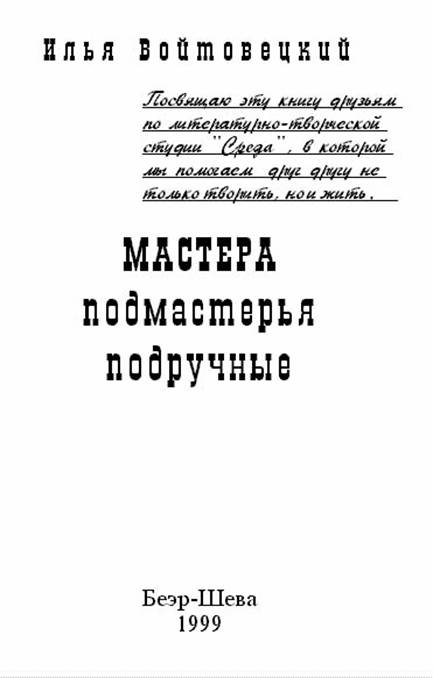
Признания накануне
Пушкинского юбилея
Ни
овалом лица, ни кожей,
ни
размером моей ступни
я,
на Пушкина не похожий
вот
– ни капельки, ну – ни-ни,
зная
минусы и пороки
всех
душевных моих глубин,
непрестанно
рифмую строки –
так,
как он рифмовать любил.
Слово
каждое отчеканю,
соразмерю
и смех, и грусть,
прочитаю,
перечеркаю
и
опять рифмовать берусь.
Не
терзаться бы беспричинно,
мужем
слыть да ещё отцом,
но
– навязчива чертовщина:
жить,
дышать, говорить столбцом.
Подыскать
бы какое дельце,
заработать
бы хоть пятак,
но
от страсти такой не деться,
не
уйти, не сбежать никак.
Вот:
хватает
она за горло
по
законам своей игры,
и
стремлюсь я к вершине горной,
и
срываюсь в тартарары.
Знать
бы, как повернёт Фортуна,
но...
мечта эта не нова.
Слава
чопорна,
пуля
дура,
время
– вечные жернова.
Всё
на свете непостоянно,
всё
неладно да неладом.
Но
–
напишет
письмо Татьяна,
потому
что задумал он,
потому
что живут пророки
на
невиданном берегу...
Я
сижу и рифмую строки. –
Жить
без этого не могу.
* * *
Далека от нас Россия –
радость с горем пополам.
Бродят рощицы босые
по росистым по полям,
сыплет снежная присыпка,
кровли мокнут под дождём.
Чья вина или ошибка,
в том что там я был рождён,
что судьбою я отмечен
самой горькою из мет,
что всегда её наречье
на слуху и на уме!
Может быть – я зря об этом
всё твержу да морщу лоб.
Но ведь стал моим поэтом
толстогубый эфиоп.
Как сквозь строй, иду сквозь сроки –
перед миром бос и наг,
и в пути мне дарят строки
Мандельштам и Пастернак.
Вездесущ, но не всесилен,
жертва собственных идей,
вечный пасынок России –
я, российский иудей,
дни связавший, словно звенья,
Бытием*
попрал битьё
под её благословенье,
под проклятие её.
*"Бытіе" – первая книга русского перевода Библии.
*
* *
Игорю
Губерману
Мне, удачливому, отмерено
долголетье у стен твердынь.
Я уже не уйду безвременно,
не умру уже молодым.
Дотянул до седого возраста
без особых на то потуг
и годочков, наверно, возле ста
испущу мой нетленный дух.
Прошепчу я слова последние
и бессильно махну рукой.
Не повздорят мои наследники,
проводив меня на покой.
По кладбищенскому по гравию
я отправлюсь в последний путь,
и о жизни моей о правильной
скажет правильно кто-нибудь.
Так предписано, так отмерено,
и испить суждено до дна
чашу полную (но Сальери мне
не плеснул своего вина!)
Почему среди буйства дымного
безмятежно пронёс я крест?
Разминулся ли я с Мартыновым?
Испугался ли мой Дантес?
У чужого костра согреться ли,
если свищет свирепый норд!
...Уплывает в далёкую Грецию
беспокойный английский лорд.
Для
самих себя –
про самих себя
Тот
варит сталь, а этот вяжет веники,
те
делают ракеты, те – духи.
А
мы?
Мы,
безусловно, шизофреники,
поскольку
тратим время на стихи.
Занятье
это нам сулит не почести,
не
Божий, а людской неправый суд.
Бывает,
почесаться очень хочется.
Стихосложенье
– это тоже зуд.
Нас
тихо презирают наши близкие
и
громко осуждают кореша,
а
мы корпим над глупыми записками,
и
нам за них не платят ни гроша.
Ни
наши имена, ни наши отчества
кассиры
в свой компьютер не внесут.
Бывает,
почесаться очень хочется.
Стихосложенье
– это тоже зуд.
Всё
так, и удивляться вовсе нечему.
Не
осуждайте сирых и калек.
Старайтесь
не перечить сумасшедшему,
поскольку
это тоже человек.
Пусть
верит в то, что, занимаясь творчеством,
вершит
он некий благородный труд.
Бывает,
почесаться очень хочется.
Стихосложенье
– это тоже зуд.
Мы
пишем с каждым днём всё совершеннее,
потея
над исчёрканным листом.
Мы
– психи. Нами принято решение,
и
непреклонно мы стоим на том,
что
есть занятья на земле полезнее –
на
НОРД пойдём или пойдём на ЗЮЙД –
и
пусть стихосложенье – это зуд,
но
из него
рождается
Поэзия!
*
* *
Поэту
Григорию Зобину,
тетрадку
стихов которого неожидан-
но я
обнаружил на моей книжной полке.
Непостижимы
миги
перебиранья
книг.
Перебираю
книги,
и
замирает миг.
Неважно,
толст иль тонок,
но
привлекает взгляд
невзрачный
с виду томик,
открытый
наугад.
Забыты
– беспорядок
и
распорядок дня
над
кипами тетрадок
и
книг вокруг меня –
неповторимо
разных,
прочитанных
и не,
и
длится, длится праздник
со
мною и во мне.
Он
бесконечно долог
и
краток вместе с тем.
И
вот уже ни полок,
ни
потолка, ни стен.
Перебирая
книги,
я
растворяюсь в них.
Непостижимы
миги
перебиранья
книг!
*
* *
Кажется,
я в храм уже допущен.
Говор
мой и глаз нерусских цвет
приняли
б, пожалуй, А.С.Пушкин,
Лермонтов,
Некрасов, даже Фет(!).
Русским
словом, рифмами, стихами
я
владею, кажется, вполне.
Только
Мордехай, Абрам и Хаим
вовсе не
нуждаются во мне...
*
* *
Плывёт
луна над сонным январём
и
надо мной, и над ночною тишью,
и
пешеход мои четверостишья
твердит
под одиноким фонарём,
и,
словно в затянувшемся бреду,
мне
видятся в ночи фонарь, аптека...
А
это просто на излёте века
я
той же самой улицей бреду.
*
* *
Памяти Иосифа Бродского
Что
может быть на свете совершеннее,
чем
смерть – существованья завершение?
Нормальный
цикл:
рожденье,
жизнь и смерть.
Две даты и тире,
две
главных станции,
как старт и финиш
на
концах дистанции –
задуманная Кем-то круговерть.
Уйдя
от старта, завершаем финишем,
живём
вчерашним
и
немножко нынешним –
едино: человек или народ.
Лежит маршрут
от
станции до станции,
никто не знает, где конец дистанции –
вершим покорно свой круговорот.
А
над Невой,
сверкнувшей,
словно лезвие,
плывёт луна и кружатся созвездия,
как россыпь на чернёном серебре.
А город спит.
А город спит без просыпа,
ещё не зная, что проспал Иосифа,
закончившего краткое тире.
НОЧЬ
ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
Памяти Бориса
Алексеевича Чичибабина
Где-то
там, за чёрными за тучами,
запахнувшись
в белые снега,
бьётся
Русь –
в
ознобе ли, в падучей ли –
в
хвори неразгаданной слегла.
Этой
ночью тихой и Божественной
вправе
ль я вершить над нею суд!
Богомольцы
по России шествуют,
образ
Божьей Матери несут.
Над
полями и над перелесками
не
смолкает колокольный звон,
и
очами скорбными еврейскими
смотрит
Мать с хоругвей и икон.
Всё
глядит Она,
всё
длится действие
на
заблудшей, на Святой Руси...
Матерь
Божья, Дочерь Иудейская,
землю
эту грешную спаси.
*
* *
Памяти
Д.Н.Монетовой.
Замираю
над каждым кадром я,
сердце трепетно стук-постук.
Дорогая Дарья Никандровна,
сядем рядышком на сундук.
Тьма ночная,
пространство комкая,
уползает за образа,
тихо тронув печальной кромкою
Богородицыны глаза.
Развевается над лампадою
золотого тисненья прядь.
Я взлетаю и снова падаю
и парю над землёй опять.
Я не сплю, дорогая, полноте!
Эту ночь проведя без сна,
вижу: толпы бредут по комнате
из изгнанья
через Синай.
Мне, мальцу, и добавить нечего,
но пойму я когда-нибудь:
в этом месте, Судьбой отмеченном,
для меня вы избрали путь.
И нежданно совсем, негаданно
вышел я на заветный круг.
Дорогая Дарья Никандровна,
сядем рядышком на сундук.
ЖИЗНЬ
И СУДЬБА
Василий
Гроссман
Не
деревня, не село.
Словом,
как ни кличь его,
а
еврею повезло:
родом
из Бердичева.
Звёзды
в небе, как в пруду –
чистые,
умытые.
У
еврея на роду –
жить
с антисемитами.
Месяц
по небу плывёт,
облако
с прорехами.
Немцы
в городе, а вот
мама
не уехала.
После
боя – тишина,
высь
– повсюду высь она,
а
война – на то война:
на
неё всё списано.
И
опять:
сиди
молчи,
жди,
кого науськают,
ешь
чужие калачи,
кушай
сало русское.
Воет
ветер за окном,
напевает
вроде нам.
В
дверь стучится добрый гном,
входит
злыдень с ордером.
Скажут:
–
Горе – не беда... –
Были
б силы вынести!
Жизнь
была,
была
Судьба.
...Не
было 60-ти.
*
* *
Давиду Лившицу – автору
известной и любимой "Черёмухи".
Ни
черёмухи, ни сирени...
Вечер,
кресло, телеэкран.
Выпьешь
водочки двести грамм,
накропаешь
стихотворенье.
Сигарета
– чумной дымок,
запрещённая
докторами –
(ты
ж, при самом большом стараньи,
сам
себе запретить не смог).
Мир
и красочен, и огромен,
но
у каждого свой реестр.
Ах,
как важно, что в мире есть –
хоть
один – телефонный номер!
–
Здравствуй!
–
Здравствуй... –
и
можно жить,
слыша
просто дыханье в трубке,
зная:
кто-то
и в этой рубке
на
друзей не вострит ножи.
Перемена
широт и стран
обостряет
и слух, и зренье.
Нет
черёмухи, нет сирени,
но
– осталось(!) по двести грамм...
Я БЫЛ
В КАНАДЕ...
Александру Городницкому
Я
был в Канаде, а Канада –
страна что надо!
В ней много солнца и прохлады,
не счесть лесов, полей и рек.
На территории Канады
так вольно дышит человек!
А меж берёз дожди косые,
как в средней полосе России.
(Не мог я с классиком не спеться,
давно его украсил нимб,
он в этом деле вроде спеца,
и я вполне согласен с ним.)
Итак, стоял я на перроне,
а подо мной текла река –
и глубока, и широка.
Я ждал парома. На пароме,
как водится, добраться можно
до точки противоположной.
Немноголюден был перрон.
Я размышлял: река, как Волга! –
да вот узнал: придётся долго
мне ждать, пока придёт паром.
"Пройдусь пешком по городку, –
я
решил, взглянув по сторонам. –
Ведь расставаться скоро
нам."
Сидели голуби, воркуя,
на крышах, ветках, на заборе,
о чём-то споря.
Я брёл, а день был тих и светел,
с реки дул ветер.
Вокруг меня цвела Канада
в разгаре лета,
спешила мимо – Вика? Надя?
а – может – Света.
Мир видя в истинном размере,
я, сам с собою не в разладе,
сообразил: да это Мэри,
ведь я в Канаде.
И следом мысль – совсем простая:
мы все похожи!
Так, впечатления листая,
я брёл, прохожий.
...Бреду, обласканный нирваной,
смотрю вокруг без мыслей задних.
Я вижу домик деревянный,
крыльцо, веранду, палисадник.
И вспять виденья побежали
как озаренья.
Стою в сиреневом пожаре,
в цвету сирени.
Я был в Канаде. В этот день
цвела сирень.
*
* *
Боре
Камянову
Ни
дворцов себе, ни дач
не
купил, не нажил.
Ходит-бродит
бородач
по
земле по нашей.
Он,
конечно, не старик,
но
отнюдь не мальчик.
Лестно
мне, что этот лик
среди
нас маячит.
Он
потычет палкой в твердь,
пригубит
водицы,
попыхтит
и – верь-не-верь –
строчкой
разродится.
Кто
назначит гонорар
за
такую россыпь?
Кто
проверит, сколько ран
на
душе он носит?
Кем
измерено: почём
сердца
полыханье?
Солнце
греет нас лучом,
а
поэт стихами.
В
дни удач и неудач
всё
слышней и зримей
то,
что пишет бородач
в
Иерусалиме.
*
* *
Неприметной
журналистке
П.
Коган,
широко известной в мире
под разными другими
именами и фамилиями.
В
часы печалей и веселий
с
друзьями вместе водку пьём,
не
пашем землю
и
не сеем,
находим
клад, где ни копнём.
Нам
нипочём лежачий камень,
до
старости la femme шершим
и
в каждом деле достигаем
недосягаемых
вершин.
Но
каждая вершина – веха,
подъём
невероятно крут,
и
от успеха до успеха
невидимый
и тяжкий труд.
А
дальше, как на карусели:
живём
– то аистом, то пнём,
в
часы печалей и веселий
с
друзьями вместе водку пьём...
*
* *
Абраму
Лурье
I
Коснись
руки моей, Абрам,
коснись
плеча рукою трепетной.
Ты
шёпотом своим и лепетом
снимаешь
боль душевных ран.
Хоть
голос твой и слаб, и тих,
но
он звучит – и сразу лучше нам.
Пусть
это сказано по случаю –
побольше
б случаев таких!
Зачем
твердить, что мир жесток!
Он
просто-напросто неведом.
Вот
встретишься с подобным дедом –
какое,
право, торжество!
Мы
с возрастом сужаем круг
своих
привязанностей давних.
Близки
оставшиеся.
Дай
мне,
Абрам,
твоих коснуться рук.
II
Выпьем,
друже, по сто грамм,
заедим
закуской.
Хорошо,
когда Абрам
литератор
русский.
Он
корпит в своей норе
до
седьмого пота.
Хорошо,
когда Лурье
сочиняет
что-то.
А
Абрам да плюс Лурье –
можно
ждать добра ли?
Хорошо,
когда еврей
едет
жить в Израиль.
Здесь
никто не скажет "жид"
и
не даст по шее.
Хорошо!
– он даже жить
будет
в Беэр-Шеве.
Он
запишется в ЛитО*,
станет
новым членом.
Сочинять
он будет о
вечном
и нетленном.
Прежде
он писал про то,
а
теперь про это.
Хорошо,
что есть в ЛитО
место
для поэта.
Хорошо,
когда Абрам –
хоть
еврей, но русский.
Выпьем,
друже, по сто грамм!
Заедим
закуской!
*ЛитО – литературное объединенее.
*
* *
Вике
Орти –
автору
поэмы "Марiя".
Ты
не порочна, ты сплошной порок.
Не
сомневаюсь: ты сопьёшься, скуришься
и
скурвишься.
Безрадостный
итог...
Брюзжу
я, престарелый моралист,
не
пьющий, не курящий, не гуляющий,
не
совершивший ни добра, ни зла ещё,
и
издаю художественный свист.
Учу:
живи,
здоровью не вреди,
радей
об общем и о личном благе.
Тебя
оценят греки и варяги
и
воздадут.
И
– счастье впереди.
Но
что тебе до эфемерных благ,
до
святости, святошами воспетой,
когда
плывёт дымок над сигаретой,
над
грудою исписанных бумаг.
За
окнами божественная синь –
свидетель
торжества и срама Рима...
и
отдавалась у костра Мария...
и
зачинался Сын...
Я
умолкаю, старый моралист.
Я
тишину брюзжаньем не нарушу,
когда
не спишь, а распинаешь душу
и
достаёшь из стопки чистый лист.
*
* *
Наташе
из книжного магазина "Арбат" в Беэр-Шеве
Вы
здесь – всегда одна и та же –
плетёте
тихо жизни вязь...
Я,
наклонясь, шепну:
–
Наташа,
какая
кофточка на вас!
Дни
протекают в долгих толках
и
в толпах – и людей, и книг.
Вдоль
полок – эти, те – на полках,
и
нет спасения от них.
Читаю:
хоровод названий,
имён
спасительный ковчег.
Любуюсь
– книгами и вами
и
вам протягиваю чек.
Мне
вздох томительный не велен,
но
– кину взгляд (короткий миг)
и
в путь – с увесистым портфелем
и
грузом дум, и связкой книг.
Я
книги разложу по полкам,
придя
домой – к одной одна,
и
с расстановкой, с чувством, толком
их
мудрость изопью до дна.
Воистину:
да, вот чем живы
мы,
коль ещё не сломлен дух.
Но,
не довольствуясь чужими,
пишу
я собственный гроссбух.
Пишу,
заглядываю в Даля,
пишу
– и вновь за словари,
пишу,
часов не наблюдая,
счастливый,
что ни говори!
Всю
ночь ношусь на шлюпке утлой,
в
крови неистовствует хмель.
И
ставлю точку. И под утро
ссыпаю
рукопись в портфель.
Слепая
тяга наркомана
меня
опять ведёт в "Арбат".
Как
говорится, только яма
того
исправит, кто горбат.
Я
к вам войду.
Мели,
Емеля!
А
выбор книг – то стар, то нов.
Я
содержимое портфеля
вставляю
взглядом меж томов.
Вот
истинные боль и немощь:
стоит,
набычившись, мужик
и
смотрит пристально и немо
на
результаты мук чужих.
Удостоверившись
воочью
и
потоптавшись у двери,
домой
отправится, чтоб ночью
своё
– нетленное – творить.
Нет,
на него не тратьте жалость.
В
непостижимом беге лет
в
его безумие вмешалась
мечта,
которой выше нет.
...И
будет ночь.
...И
будет утро.
...И
день –
на
счастье ль? на беду?
Я
к вам войду
и
взглядом мутным
чужие
книги обведу
вдоль
полок, в высь многоэтажья –
прозрев?
опомнясь? обновясь?..
Да
что нам книги!
Ах,
Наташа,
какая
кофточка на вас!
*
* *
Когда
б вы знали, из какого сора
Растут
стихи, не ведая стыда...
А.А.Ахматова,
"Тайны ремесла",
21
января 1940 года
I
Осколки,
склянки, прочий сор,
извёстка,
старые обои –
слежались,
слиплись меж собою.
Какой
безрадостный узор!
В
харчевне жарится шашлык
(жаровня
очень горяча там!).
Окуталась
окрестность чадом. –
Заманивают
прощелыг!
А
те базарят (вот их стиль!)
Обжоры!
Пьяницы
и хамы!
...Но
– разразился я стихами
и
всех поэтому простил.
Банальных
рифм не выношу,
но
каюсь: падок на курьёзы.
Вот
выдал классик рифму "розы".
Бывает,
что и я грешу...
Рифмуя
так – строка к строке,
я
рифмовать
не
перестану
и
пробираюсь – к пьедесталу,
сжимая
рукопись в руке.
И
лопухи, и лебеда
растут
обычно у забора. –
Так
и стихи порой из сора
растут,
не ведая стыда.
А
– значит: я по доброй воле
должон
признать на склоне лет,
что
никакой я не поэт,
я
просто мусорщик, не боле...
II
Я
чувствую, что я расту.
Не
в смысле, что произрастаю,
а
в смысле том, что подрастаю,
что
набираю высоту.
Приходят
в голову сперва
не
словеса, приходят мысли,
а
чтоб без смысла не повисли,
преображаются
в слова.
И
из-под слоя шелухи,
как
из-под мусора росточки,
выходят
фразы, рифмы, строчки –
и
превращаются в стихи.
Прильнув
к раскрытому листу,
я,
самый первый их читатель
и
самый верный почитатель,
я
чувствую, что я расту.
МАРТОВСКИЕ
СТИХИ
Мой
март был урожайным месяцем.
Пусть
веселит,
пусть
уморит
меня
шальная околесица,
чтоб
– рифма к рифме, к ритму ритм!
Беснуются
стихи-проказники,
и
я прекрасно занемог,
предчувствуя:
всё ближе праздники,
и
– Песах к Пасхе, к Богу Бог!
И,
веруя, любя и радуя,
я
обнимаю целый свет.
Да
будет ливень!
Будет
радуга!
И
– краска к краске, к цвету цвет!
Пути
прямые и окольные
и
чувств избыток – пруд пруди,
и
брызжет луч в стекло оконное
и
– сердце к сердцу, грудь к груди!
Пусть
всё и сбудется, и станется,
в
печали, в радости, в тоске
живётся,
любится,
и
– тянется
рука
к перу, перо к строке...
*
* *
Куплю
гондон в сортирном автомате,
найду
любовь в подъезде на углу,
заем
поллитру частиком в томате
и
сяду на иглу.
Забуду
лица, имена и даты,
забрезжит
и растает свет во мгле...
И
кто поверит:
Моцарт
жил когда-то
на
позабытой Господом земле.
*
* *
Изредка,
задумавшись о чем-то,
высветив
на плоскости строку,
ЭВМ
уверенно и чётко
служит
мудрецу и дураку.
Женщины,
подростки и мужчины
жмут
на кнопки, не смыкая век.
Ах,
какую умную машину
выдумал
для нас двадцатый век!
Наползают
диски чёрной тучей,
прёт
запрограммированный стиль.
А
на дальней книжной полке Тютчев
загрустил...
Притих
и загрустил.
*
* *
Брожу
угрюмо среди стен,
ищу
упорно пятый угол.
Меня
гнетёт обилье тем,
бессильем
слов я перепуган.
Казнюсь
над каждою строкой
и
наполняю новой тайной
мой
постоянный непокой
и
мой покой непостоянный.
*
* *
Юре
Арустамову
То
весело, то хмуро
гляжу
по сторонам.
Вот
так живется, Юра,
на
этом свете нам:
то
в облаках витая,
то
рухнув с высоты.
Земля
у нас Святая,
тут
с Богом мы на "Ты" –
живём,
и, выжить силясь,
возводим
Третий Храм.
Наш
путь земной извилист,
а
в небо – крут и прям.
Да
не для доли ратной
пришли
мы в этот мир,
а
чтоб сказать:
–
Ты брат мой! –
тому,
кто сердцу мил.
ПОМИНАЛЬНОЕ
Ни
камня, ни креста, ни места –
вздохнём:
–
Жила-была...
Строка
– в века,
молчанье
– месса,
судьба
– Елабуга.
Не пророню ни слова. И не напомню снова.
Да и помочь-то нечем: путь наш невечный –
мечен.
Чем? – Высоким оградом (адом!).
Чем? – Пустотою рядом (ядом!).
Чем? – Душевным надломом (ломом!).
Чем? – Подавленным стоном (что нам...).
И нераскрытой книгой, и недопетой фразой.
(Лучше – единым мигом. Предпочитаю –
сразу.)
И задутой свечою (стелется дух стеарина).
Ах,
извините – о чём я?
...Звали
её:
|
МАРИНА |
* * *
Горсовет Воронежа отказался назвать улицу,
на которой во время Воронежской ссылки
жил Осип Эмильевич Мандельштам,
именем поэта
по причине неблагозвучности его фамилии.
(Из сообщения ЦТ в конце 1989 года.)
"Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож!"
О.Мандельштам, 1934
Строка,
как страсть, страшна и долгожданна –
сплетенье
мук, восторгов и обид.
В
Воронеже убили Мандельштама
спустя
полвека, как он был убит.
Опять
вещает вождь под гром оваций,
опять
маячит крейсер над Невой,
и
улица не будет называться
неблагозвучным
именем его.
Вот
так всегда:
лишь
только память тронешь,
его
строки густой настой вдохнёшь –
выводит
на расстрел его Воронеж.
Воронеж
– блажь?
Воронеж
– ворон, нож!
Борис
ПАСТЕРНАК
I
"Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?"
Б.Пастернак,
"Про эти стихи", 1917
Проходит
время мимо
под
барабанный бой.
А
боль – неутолима,
невыразима
боль.
Мгновенья,
словно мины,
идут
цепочкой вех.
Не
одарил нас миром
неумолимый
век:
недобрые
повадки,
немыслимый
конец.
А
над кровавой схваткой
безмолвствует
Творец.
Безмолвствует
– и этим
неодолим
в войне,
Он
вне тысячелетий
и
наших судеб вне –
как
камертон, настроен
на
самый чистый тон.
Однажды
мы раскроем
Его
терзаний том.
Раскроем
– и отметим,
что
выжили в бою,
и
в каждом междометье
прочтём
про боль свою.
II
Любитель
песни "Сулико"
жил
с Музами легко и просто:
шутил
легко, смещал легко
и
подсыпал в кормушку просо.
Но
не клевал Служитель Муз
из
вседержавного корыта,
и
вождь сучил сердито ус
и
трубку набивал сердито.
Был
листопад.
Был
снегопад.
Шары
голов летели в лузы.
Мудак
отплясывал гопак.
Гремели
пушки.
Глохли
Музы.
Но
неоглохшая одна
ещё
шептала по-старинке,
чтоб
чашу мог испить до дна
поклонник
Скрябина и Рильке.
Ему
ли было по плечу
одаривать
бессмертьем строки!
Но,
видно, Промысел высокий
не
дал задуть его свечу.
Мело, мело по всей земле,
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела!
III
Мне
нравится писать стихи,
блуждать
в словесных лабиринтах,
как
будто бы искать в степи
одну
заветную тропинку.
Пытаюсь
я проникнуть в звук.
Чуть
поворачивая фразу,
я
обнаруживаю вдруг
срез
для гранения алмаза.
В
перестановках слов и строк,
в
их кажущемся беспорядке
вдруг
нахожу порядок кладки –
и
он внезапно нов и строг.
А
впрочем – это ложный след:
терзать
себя в пустой надежде. –
Стихи
готовы были прежде,
чем
появиться им на свет.
Стихи
– не плод мирских тревог,
людских
терзаний и горенья:
в
один из первых дней творенья
их
вместе с миром создал Бог.
Они,
как воздух, как вода,
как
хмель – безумствуют и бродят,
они
везде, они всегда:
в
мужчинах, в женщинах, в природе.
И
есть на ком-то Божий знак –
и
милостивый, и высокий.
Придёт
однажды Пастернак
и
нам подарит эти строки.
Он
их возьмёт из кутерьмы,
из
дыма, из навозных грядок –
возьмёт
оттуда, где и мы
бездумно
проходили рядом.
Он
их подарит нам, как сад
даёт
нектар – пахуч и сладок,
или
как дарит водопад
каскад
потоков, брызг и радуг.
Он
их оставит на земле
как
вечный зов души и тела:
"Свеча
горела на столе."
И
– словно вздох:
"Свеча
горела..."
А
я сижу, пишу стихи,
мечусь
в словесных лабиринтах
и
всё ищу мою тропинку
в
давно исхоженной степи.
IV
6
марта 1993 года
"Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко Мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты".
Б.Пастернак,
Заключительные строки романа "Доктор
Живаго".
Ольге Ивинской
Поздний
час.
Не
пьём, не балагурим.
Домочадцы
спят уже давно.
Как
всегда, и в этот праздник Пурим
ноготками
дождь стучит в окно.
Он
с листвою на ветру судачит
в
ярком свете красочных реклам.
Отключился
телепередатчик,
вспышками
покрыв телеэкран.
Притаились
потолок и стены,
заползла
в углы ночная тьма...
Под
"Экспромт-Фантазию" Шопена
я
могу всю ночь сходить с ума.
Вечно
длись, непреходящесть мига!
Будничность,
попридержи свой шаг!
...Ночь,
"Экспромт-Фантазия"
и
книга –
в
мире
я,
Шопен
и
Пастернак.
Я
сердцебиение умерю,
вдаль
вгляжусь, где не видать ни зги,
вслушаюсь,
как шаркают за дверью
еле
различимые шаги. –
Поздний
гость...
А
там, на поле брани,
чья-то
правда и ничья вина,
снежные
заносы на Урале,
голод
и Гражданская война,
горе,
горе и потоки крови –
целое
столетье кровь и кровь!..
У
героя слабое здоровье.
У
героя сильная любовь.
Тихи
голоса и тени шатки,
и
нечётки очертанья лиц...
Он
уже на лестничной площадке –
он
шагнул с распахнутых страниц,
он
среди вселенского пожара
одинок,
растерян и раним.
Кто
откроет: Тоня или Лара –
дверь
ему и сердце перед ним?
Поздний
час.
Не
пьём, не балагурим.
Домочадцы
спят уже давно.
Как
всегда, и в этот праздник Пурим,
ноготками
дождь стучит в окно.
Шёпот
ветра...
шелест...
шорох
шага...
шум
листвы...
Безумствует
струна!
Слышу
голос Юрия Живаго.
Открываю.
Входит
Пастернак.
А
вокруг – чужие чьи-то лица...
пульс
в висках...
и
подступает тьма...
кровью
наполняется аорта...
Я
под звук последнего аккорда
дочитал
последнюю страницу,
понимая,
что сошёл с ума.
БЕТХОВЕН
Бетховен глух.
Не
скрипнут половицы,
не
взвизгнет дверь проржавленной петлёй.
А
за окном в ветвях щебечут птицы
и
дышит свежий ветер над землёй.
Бетховен глух.
А
может быть, напротив,
мир
оробел и, звуки поборов,
беседует
беззвучьем подворотен
и
немотой подъездов и дворов.
Бетховен глух.
Уйдя
безумной гривой
в
изгиб спины и неподвижность плеч,
он,
пальцы сжав, следит, как луч игривый
на
клавиши пытается прилечь.
Бетховен глух.
Всевластен
страх беззвучья,
всесилен
устрашающий недуг,
но
в тишине рождается певучий,
почти
невыносимо чистый звук.
Бетховен глух.
Он
глух к полночным скрипам,
к
ворчливым дрязгам, к суете сует,
он
мрачен, нелюдим, угрюм и скрытен.
Бетховен
глух.
–
Бетховен глух? О, нет!
Он
ночью у постели неизмятой
задумчиво
сидит, как манекен.
Он
слышит взлёты будущей Девятой,
не
слышанной пока ещё никем.
Язык
распухший шевелится сухо,
прикрытый
глаз в орбите изнемог,
и
самым чутким, самым острым слухом
Бетховен
слышит, как вздыхает Бог.
*
* *
"Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребёнка, и друга,
И таинственный песенный дар..."
А.А.Ахматова,
"Молитва", 1915
"Кто чего боится,
То с тем и случится."
А.А.Ахматова,
"Песенки", 1943
Такие
лица в полутьме икон
писали,
проходя настилом шатким.
Двадцатый
век, приди к ней на поклон
и
перед ней сними смиренно шапку –
за
всё за то, что выполнил сполна,
о
чём просила и о чём молчала,
за
всё за то, что жизнь свою она,
перечеркнув,
не проживёт сначала –
двадцатый
век, приди к ней на поклон.
...Фонтанный
дом, окно и старый клён –
они
свидетели всего на свете.
А
у порога новое столетье.
*
* *
Злате РАЗДОЛИНОЙ
I
Всё
оставляем: и поля, и реки мы,
и
рощи, и леса с густыми чащами,
но
наш последний, наш прощальный Реквием
ещё
звучит за нами, уходящими.
Пусть
над Невою облачною, серою
отплачет
он над гладью и над волнами,
расплачиваясь
самой полной мерою
за
всё, чем души наши переполнены.
Мы
помним и хорошее, и всякое.
Да
будет время нам надёжным лекарем!
Плывёт
над куполами Исаакия
последний
вздох –
прощальный
возглас –
Реквием.
Ширь
небосвода по-российски матова...
взлетаем
ввысь...
планета
наша вертится...
и
машет нам рукою вслед Ахматова –
великая
России
страстотерпица.
II
Не
замирайте на высокой ноте...
Туда,
где плещет невская вода,
Вы
не вернётесь.
Павловск
не вернёте.
К
Вам Павловск не вернётся никогда.
Стряхните
грёзы, встаньте утром рано,
и
пусть, неприхотливы и просты,
звучат
для Вас под небом Авраама
гортанные
мелодии пустынь.
Пусть
в дальней дали будут неустанно
тянуться
ветви к серым небесам,
пусть
вечно будет там, как прежде, Анна
прислушиваться
чутко к голосам. –
Стряхните
грёзы, встаньте утром рано,
и
пусть, неприхотливы и просты,
звучат
для Вас под небом Авраама
печальные
мелодии пустынь.
Злата РАЗДОЛИНА – композитор и певица,
автор музыки к "Реквиему" А.А.Ахматовой,
жила в Павловске под Ленинградом,
с 1990г. в Израиле.
*
* *
Эстер Ефимовне МАРКИШ –
вдове Поэта.
...Вал и ров.
По – щады не жди!
В сём христианнейшем из миров
Поэты – жиды!
М.И.Цветаева, "Поэма
конца", 1924
Убит
Поэт.
У
мира отнят
блеск
дальних звёзд и шёпот крон,
и
пересвистом красной сотни
в
стране свирепствует погром.
Опять
в котле безумной варки
убитые
не на войне.
Он
был Поэтом, Перец Маркиш –
а,
стало быть, жидом вдвойне.
Всё
тленно. Даже имя сгинет.
Умрёт
народ, коль мёртв Поэт.
Ни
камня на его могиле,
да
и могилы тоже нет.
Никто
судьбу не пересилит.
Друзья
молчат, резвится враг,
и
над немытою Россией
господствует
великий мрак.
Но
за чертой, где полдень жаркий,
где
дали, словно взмах руки,
живёт
мальчишка Перец Маркиш,
как
продолжение строки.
Бездонно
небо голубое,
и
соком налита лоза,
и
бабушка глядит с любовью
в
его библейские глаза.
МАРК
ШАГАЛ
Скрипач
на крыше, а невеста – в воздухе.
Как
счастлив чуть подвыпивший жених!
Еврейская
судьба: ни сна, ни отдыха –
пусть
повезёт кому-нибудь из них.
Кружится
над сожжёнными местечками,
как
белый снег, такой же белый пух.
Здесь
были хаты – хаты по-над речками,
теперь
растут осока да лопух.
Скрипач
сюда не возвратится более,
поскольку
нет родных еврейских крыш,
и,
мучимый бесчисленными болями,
жених
уехал навсегда в Париж.
А
по дороге, под чужими дулами,
и
стыд, и боль в душе не поборов,
невеста
с пожилыми балагулами
нагая
шла осенней ночью в ров.
Исчезло
всё. Неведомыми рейсами
ушли
– кто прямо в ад, кто прямо в рай,
и
не звучит напевами еврейскими
чужой
и вовсе не еврейский край.
Чужая
речь за старыми оградами,
субботнее
застолье без свечи.
Но
будут жить –
и
будут души радовать –
на
чьих-то крышах наши скрипачи.
*
* *
В начале 1962 года Владимир Высоцкий,
тогда малозаметный актёр Московского Театра Миниатюр,
находился на гастролях в моём родном городе
Свердловске,
который в то время ещё не оправился
от последствий ядерного взрыва вблизи Кыштыма.
Высоцкий коротал время в гостинице "Большой
Урал",
писал полные любви и безысходности письма жене Люсе
Абрамовой
и тосковал по оставленной им Москве.
Ещё ему приветствий не орали,
ещё он был живым и молодым.
Он номер занимал в "Большом
Урале",
глотая стронций и вдыхая дым.
Ещё не автор ни стихов, ни песен,
ещё не Гамлет и не Галилей,
не знаменит, не знатен, неизвестен –
лишь гастролёр в провинции моей.
Стакан...
(в него уже напиток налит),
глоток, глоток...
(и осушён до дна).
Никто не ведал,
что рождался Гамлет
уже тогда
(да-да, уже – тогда!).
И над уральской тусклою Исетью*,
над всем его метаньем кочевым
уже
вставало
трудное
бессмертье
и, словно рок,
искало встречи с ним.
1990
*Исеть – речка, на берегах которой
был построен Екатеринбург (Свердловск).
21 ноября 1991 года в Москве
покончила счёты с жизнью
поэт, фронтовик Юлия Друнина.
Она плотно закрыла дверь гаража,
запустила мотор автомашины
и стала спокойно ждать конца.
В предсмертном письме она просила
никого в случившемся не винить.
Юлии Друниной было 67 лет.
Очередная
новость – и стал теснее круг.
...Есть
вещь такая: Совесть –
сомнительный недуг.
Порыву
повинуясь, взмолиться б:
–
Не боли!
Прошли
бои сквозь юность.
Шла
юность сквозь бои.
Остаться
бы собою, не угодить бы в сеть,
бойцу
на поле боя принять достойно смерть,
но
времена всё круче, последний Свет погас,
но
есть –
на
крайний случай –
автомобильный газ.
Не
стать уже иною, сказав себе:
–
Держись!..
Вся
жизнь была войною. –
Война
длиною в жизнь.
Но
в стане ложных истин порою жизнь – вина.
Но
акт уже подписан, и – кончилась Война.
*
* *
Простираю
я руки в улицы,
как
в бездонные рукава.
Мне
глазастые звёзды-умницы
шепчут
ласковые слова.
Полнолунья
округлость медная
мирозданию
в унисон,
проплывая
над миром медленно,
вздох
роняет в межзвёздный звон.
Я
внимаю звучанью этому
за
пределами лет и зим.
Крыши
тёмными силуэтами
окунулись
в ночную синь.
За
разлапистой чёрной пальмою,
очарован,
заворожён,
заколдованный
далью дальнею,
поднял
палочку Дирижёр.
Над
сомненьями и досадами
вознеся
весь свой дюжий рост,
дирижирует
Он цикадами,
мириадами
снов и звёзд.
И
в загадочность ту негромкую,
ненавязчивы
и тихи,
у
окна занавеску комкая,
я
вплетаю мои стихи.
МУЗЫКА
Я
слышу музыку. Она
меня
не покоряет блеском.
В
её звучаньи – слишком веском –
порою
сдержанность слышна.
Я
чувствую, как даль плотна.
Я
представляю очень ясно,
что
совершенно неподвластна
напору
музыки она.
Я
слушаю полутона
и
вглядываюсь в полутени:
вот,
удаляясь, полетели
они
за плоскость полотна –
туда,
где явь темным-темна.
Но
всё увереннее руки
её
преображают в звуки,
в
которых плещется луна.
Со
взбаламученного дна
уже
на звуки неразъята
всплывает
Лунная соната
и
в мире властвует.
Одна.
*
* *
Святославу Рихтеру
Стаккатный
ливень
тысячеперст.
Стократ
счастливый
рояль
разверст.
Всей
глуби залежь
разворошил
размахом
клавиш,
натягом
жил.
Бушует
ливень
тысячеструй
в
сеченьи линий,
в
дрожаньи струн,
и
тишь примята,
и
вдаль круги.
Аккорд,
фермата
и
взмах руки.
Завеса
теней,
и
зал глубок.
На
авансцене
усталый
бог
над
круговертью –
сквозь
непокой –
и
до бессмертья
подать
рукой.
*
* *
Сижу,
читаю. Тих уют. Горит торшер.
Часы
негромко тикают. Ты спишь, ma chére.
Наигрывает
стерео, как в полусне,
и
чёрной кроной дерево кивает мне.
Луна
умылась – в небе ли или в воде.
Я
в были или в небыли – везде, нигде –
на
поле брани, в танце ли, в тисках оков –
средневековье
Франции:
сквозь
даль веков
мелькают
шлейфы, панцири, колье, мечи –
блеск
королевской Франции в моей ночи.
Сверкает
рыцарь латами. Vivat, victor!
Как
славно, что об атоме не знал никто.
...Над
двадцать первым веком
тучи,
гладь,
туман,
безлюдье,
тишь.
И
некому читать роман.
*
* *
Саше
ОКУНЮ,
соорудившему
"Престол Всевышнего"
с живою
рыбкою золотою.
Однажды
золотою рыбкой
художник
Бога одарил.
Вставал
рассвет полоской зыбкой.
Туман
стелился меж стропил.
Всевышний,
сидя на Престоле,
вершил
Свой Суд на Небесах:
читал
доносы в Протоколе,
ворчал
под Нос: "Mein Gott! Доколе?",
икая,
хохотал до колик
и
двигал Гирьки на Весах.
А
души (Боже, что за души!)
сбивались
кучно в уголки
и
крали – кто флакончик туши,
кто
разноцветные мелки,
бранились
долгими часами
пока
Господь водил Перстом,
на
стенах глупости писали,
загадив
ими весь Престол.
Очнувшись
на исходе ночи,
Всевышний
встал (не с той Ноги),
свершил
Молитву ("Авва Отче!"),
вздохнул,
устало вскинул Очи,
воскликнул:
–
К чёрту! Нету мочи!
взмолился:
–
Рыбка, помоги! –
и
та, без слов пустопорожних,
сказала
ласково Ему:
–
Не дрейфь, старик, придёт Художник,
Он
разберётся, что к чему.
*
* *
Дыханье
лет, как своры гончих,
всё
ближе слышу у плеча,
и
всё бросаю, не закончив,
а
часто – даже не начав.
Я
как-нибудь перезимую,
не
дотянувшись до вершин.
–
Но вот ведь Шуберт: он Восьмую
так
до сих пор не завершил! –
И
Провиденье промолчало –
впервые
на моём веку.
А
мне – такое бы начало –
хотя
бы первую строку!
Пройтись
по клавишам потёртым,
а
после:
в
зале при свечах
его
вступительным аккордом –
одной
бы ноткой – прозвучать!
Мне
б только миг его горений,
мгновенный
всплеск его огня...
Звучит
Симфония.
И
Гений
с
гравюры смотрит на меня.
*
* *
Аукцион.
За
затворённой дверью
блеск
бриллиантов от волос до ног.
Скользят
по чекам золотые перья:
СЕГОДНЯ
ПРОДАЁТСЯ
ЗДЕСЬ
ВАН-ГОГ!
В
проходах униформы встали плотно,
взлетает
над трибуной молоток:
сегодня
покупаются полотна –
СЕГОДНЯ
ПРОДАЁТСЯ
ЗДЕСЬ
ВАН-ГОГ!
Нули,
нули – как жемчуга на нити.
Юли-юли:
здесь каждый царь и бог.
–
Пожалте, уплатите...
–
Получите...
СЕГОДНЯ
ПРОДАЁТСЯ
ЗДЕСЬ
ВАН-ГОГ!
...А
в далях голубых и полусонных
течёт
река, над ней навис мосток,
качается,
качается подсолнух
такой
же рыжий, как Винсент Ван-Гог...
Полотна
разъезжаются по свету,
а
им навстречу, нищ и одинок,
бредёт,
зажав потёртую монету,
Ван-Гог.
ПРИГЛАШЕНИЕ
К ШОПЕНУ
Лене
Залко
Прошу,
пани, прошу, Лена,
прошу
Вас я:
поиграйте
мне Шопена
в
ритме вальса.
Наважденье
– эти звуки,
эти
трели,
словно
отзвуки разлуки
и
потери.
В
нашем крае неморозном
и
хамсинном
затоскуем
по берёзам,
по
осинам.
Здесь
цветут в пустыне маки,
словно
в Польше.
Мы
немножечко поляки,
даже
– больше.
В
наших душах не завянет
гроздь
сирени.
Мы
немножечко славяне,
хоть
– евреи.
Мы
для пана – совершенно
иноверцы.
Поиграйте
мне Шопена
в
ритме сердца.
*
* *
Свистел хамсин, и голосили
дали,
песок завесой над землёй
висел,
а я читал стихи прекрасной
даме
и слушал вальс Шопена –‑
номер семь.
Небесный свод, не выдержав
качаний,
на землю рухнул, и сгустилась
тьма,
был Страшный Суд, а мы не
замечали
и не сошли поэтому с ума.
Жизнь продолжалась, трепетна
и бренна,
в неё врывалась за грозой
гроза,
а я читал стихи под вальс
Шопена,
и женщина смотрела мне в
глаза.
рисунки на компьютере
Скользит
в дисководе головка,
и
точка ползёт вдоль экрана.
Как
умно, как тонко, как ловко
построена
кем-то программа!
По
пьянке ль нечистый попутал?
Вмешался
ль по трезвости Чистый?
Бесстрастен
трудяга-компьютер...
Но
мысль озаряется Искрой!
В
тиши неопознанный некто
мелькнул
незамеченной тенью,
рождая
в подкорковых клетках
невиданных
линий сплетенье,
а
может быть – женщина как-то
взглянула,
а
может быть – дождик
прошёл,
да
вот этого факта
никак
не отметил художник...
ПЕСЕНКА
(под
гитару)
На
маленькой кухоньке тесно,
весь
мир – от стены до стены.
Здесь
тихие-тихие песни
до
позднего часа слышны.
За
стенами грозно держава
буравит
ракетами тьму.
На
кухне поёт, нам поёт Окуджава,
и
мы подпеваем ему.
Аккорды
гитарные грустно
звучат
на любом этаже.
Остыла
в тарелках закуска,
и
водка согрелась уже.
Мы
слушаем, слушаем жадно.
В
густом сигаретном дыму
нам
тихо поёт, нам поёт Окуджава,
и
мы подпеваем ему.
20
июля 1994 года
...а
где-то там, в безвестной кухне,
вдали
от храмов и палат,
обутый
в комнатные туфли,
сидит
задумчивый Булат.
Сидит
– не молодой, не старый,
оставшийся
самим собой,
в
обнимку со своей гитарой –
в
обнимку со своей Судьбой.
Он
встретился с отцом и братом
и
обнял маму.
А
теперь
он
молча встал, побрёл Арбатом
и
тихо постучался в дверь...
25июня
1997года
Наш паровоз, вперёд лети!
Революционная песня.
Чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи
Крушенье.
Б.Окуджава, "Полночный троллейбус".
Паровоз спотыкался о рельсы,
кочегар был устал и понур,
и "Аврора" –
раздолбаный крейсер –
вхолостую куда-то пальнул,
и солдаты, бежавшие с фронта,
на углу распивали вино,
и Ильич поразмыслил о чём-то
и подставил плечо под бревно.
Лицевали, пороли и шили,
тасовали –
че-ка и зэ-ка.
Вождь народов Сосо Джугашвили
рассуждал на предмет языка.
С мавзолейной трибуны
Лаврентий
баб разглядывал через стекло.
Чёрным крепом по траурной
ленте
красноватое время текло.
Паровоз шёл натужно и ржаво,
под себя подминая страну.
На Арбате Булат Окуджава
подтянул на гитаре струну,
заглянул в погрустневшие лица
улиц, улочек и площадей
и пошёл – подбирать по
столице
потерпевших крушенье людей...
*
* *
Историческая справка:
13 января 1948 года по
приказу И.Сталина
был убит Шломо Михоэлс.
14 мая того же года Давид
Бен-Гурион
объявил о создании
Государства Израиль.
В праздник Пурим 1953 года
умер И.Сталин.
Памяти Шломо МИХОЭЛСА
Плыл
гроб под траурными флагами.
Гудел
большак.
А
люди плакали и плакали,
смиряя
шаг.
Промёрзшие
ограды слышали
тот
скорбный плач,
а
над заснеженными крышами
парил
скрипач.
Горели,
убывая, свечи, и
густела
мгла.
На
небосвод шестиконечная
звезда
легла.
Нет
в жизни – начисто и начерно
(с
тюрьмой, с сумой).
Но
будет Пурим – так назначено
судьбой
самой.
Так
было и так будет.
Вечная
–
гори
всегда,
моя
звезда шестиконечная –
твоя
звезда!
*
* *
Бывшему
питерцу,
а
ныне трудящемуся Востока
поэту-фронтовику
Михаилу
КОРОБОВУ
Я
не бродил ночами белыми,
а
тосковал в тени рябин.
Но
мы с тобой не пальцем деланы –
и
вот дожили до седин.
Чего-то
в жизни мы да стоили,
хлебнули
на веку с лихвой,
и
даже вписаны в истории
двух
самых справедливых войн.
Винить
нам в неудачах некого,
не
просим за добро наград.
Под
раскалённым небом Негева
мы
встретились как с братом брат.
Здесь,
как в эпоху Вавилона, мы
перемешали
языки:
витиеватость
соломоновой
и
точность пушкинской строки.
Стремимся
до вершин добраться, но
при
этом сохранив лицо.
Пусть
мы не боцманы, а кацманы,
да
любим крепкое словцо.
Мы
работяги, а не зрители,
и
– пусть читатель нас простит –
порой
– на русском, на иврите ли –
легко
"словцо" вплетаем в стих.
И сердце бьётся в упоении,
и воскресают вновь и вновь
и божество, и вдохновение,
и жизнь, и слёзы, и любовь.
В
ВЕЧНОМ ПОИСКЕ КРАСОТЫ
Белой
дымкой окутан весь я,
зори
праздную, росы пью.
Мне
навстречу летят созвездья
самой
чистою россыпью.
Верю
ль в чёрта?
Молюсь
ли Богу?
Всё
бросаю и жгу мосты.
Отправляюсь
я в путь-дорогу
в
вечном поиске красоты.
Кем
я был в превращеньях прежних?
Резал
правду? Юлил и лгал?
Кто
я: праведник или грешник?
Повелитель
или слуга?
Не
за правдою, не за ложью
отправляюсь
я в зной и стынь.–
Я
шагаю по бездорожью
в
вечном поиске красоты.
Заблуждающийся,
заблудший
средь
абсурдных речей и вех,
из
– где глубже
и
из – где лучше,
просто-напросто
человек,
веря
в то, что чего-то стою,
всё
черкаю,
всё
рву листы –
очарованный
красотою
в
вечном поиске красоты.
30
НОЯБРЯ 1993 ГОДА В АРАДЕ
Лене
Аксельрод
Ноябрь
кончался этим вечером,
и
близился урочный час,
и
полная луна засвечена
была,
конечно же, для вас,
и
звёзды, будто бы наклеены
на
безграничность синевы.
Окраиной
была Вселенная,
а
центром – безусловно вы.
Такая
хрупкая и тихая,
под
стать Поэзии самой,
вы
сладили с неразберихою,
зловредностью
и кутерьмой.
Поэзия
– от бед укрытие,
порою
и сама – беда,
евреев
Жмеринки и Питера
негромко
позвала сюда.
И
вас они просили,
времени
утратив
драгоценный счёт:
–
Ещё одно стихотворение!
–
Ещё, пожалуйста,
ещё!
Чернели
пальмы в лунном блеске, и
мерцали
звёзды вдалеке,
и
слушали холмы библейские
стихи
на русском языке.
УТРЕННЯЯ
ЗАРИСОВКА
Я
слышу лязг стального динозавра.
Я
вмиг проснулся, выглянул во двор
и
понял, что уже настало завтра
и
мусорщики убирают сор.
А
значит нужно встать, почистить зубы
и
навести нехитрый марафет.
Июль
проходит.
Дни
идут на убыль.
И
ночь длиннее,
и
поздней рассвет.
А
мусорщики курят у забора,
и
слышат, просыпаясь, петухи
негромкий
смех, обрывки разговора
и
русский мат, и русские стихи.
УЛИЧНЫЙ
МУЗЫКАНТ
Мой
приятель Серёга Вайс,
лабух
самый обыкновенный,
на
баяне играет вальс,
нам
знакомый с поры военной.
Он
растягивает меха,
нажимает
за кнопкой кнопку,
улыбаясь
порой слегка
тем,
кто мелочь кладёт в коробку.
Он
играет "Осенний сон"
и
басами вздыхает сипло.
Брошу
шекель, услышу звон
и
приветливое "спасибо".
Мой
приятель Серёга Вайс,
над
баяном своим ссутулясь,
развлекает
игрою вас
на
углу многолюдных улиц.
Не
роняя зазря словес,
кинет
пальцы от края к краю.
"Я
Огинского "Полонез", –
говорит
он, – сейчас сыграю."
Он
кивает мне:
"Не
тужи!
Заработанный
хлеб не горек."
Завыванья
автомашин
"Полонезу"
недружно вторят.
Мой
приятель Серёга Вайс,
атрибут
городского центра!
...Помню,
как партитуры вязь
он
просматривал в день концерта.
В
беге канувших зим и лет
долгий
праздник не прерывался:
высшей
ценностью был билет
на
концерт дирижёра Вайса.
Над
пюпитрами вознесён,
он
парил над притихшим залом
и
дарил не осенний сон –
грёзы
зимние* навевал он.
Мой
приятель Серёга Вайс...
Повздыхает
баян плаксиво,
скажет
слушатель:
–
Высший класс! –
и
ответит Сергей:
–
Спасибо.
*"Осенний сон" – старинный русский вальс, "Зимние
грёзы" – название Первой симфонии П.И.Чайковского.
*
* *
Ирочке
РАКАНТ –
дивной
пианистке
и
очаровательной девоньке
шестнадцати
лет от роду
после
её концерта
13
февраля 1994 года.
Был
звук, был лик!
Увы,
так быстротечен –
всего
лишь миг! –
и
вот окончен вечер.
И
тишь, и звук
меняются
ролями.
Не
позовут
тебя
опять к роялю.
Уйдёшь
домой,
опустишь
тихо плечи...
Но
– Боже мой! –
ведь
был он, этот вечер,
бурлил,
шумел,
безумствовал,
раскован:
поток
–
Шопен!
и океан –
Бетховен!
вприсядку –
Брамс!
в обнимку –
Дунаевский!
(все вместе, враз –
аккорды, взлёты, всплески).
...Не блекнет свет
в столетьях... –
Тают свечи...
Был миг.
Есть век.
И – не окончен вечер.
СОТВОРЕНИЕ
МИРА
Лёве
СЫРКИНУ,
сотворившему
на древней земле Израиля
во
граде библейском Содоме
воду
и огнь и райские кущи,
цветущие
во свете дня
и
во тьме нщи,
познавшему
муки и радость Творчества
и
подарившему свои творения нам.
Творец
потёр задумчиво Глаза.
Он
скрипнул на ходу вселенской осью,
не
торопясь поднялся на леса
и
Головой над хаосом вознёсся.
Был
первый день
(точнее
– день один).
Творец
в работе не любил халтуру.
Он
по площадке молча походил
и
Пятернёй разгладил Шевелюру –
вернее,
место, где Она росла,
когда
Он был неопытным и юным.
Вот
ангел тихо прикоснулся к струнам.
Творец
очнулся.
Капнула
роса.
Творец
творил.
Пусть
будут Хлябь и Твердь,
пусть
будут Свет и Тьма,
Луна
и Солнце,
Восторг
и Огорченье,
Жизнь
и Смерть –
и
пусть всё это в Вечность понесётся.
Творец
творит.
Вселенная
в бреду...
Плывёт
туман...
Струится
лучик тонкий...
Я
подойду – и постою в сторонке.
Я
постою в сторонке –
и
уйду.
HOMO SAPIENS
Живу
–
посланец
мига
в
царстве вечности –
с
тревогою:
что ждёт
меня в конце?
Моё
предназначенье:
щит
ли?
меч?
–
нести
с трагической
улыбкой на лице.
Наступит
ли мгновение –
то
самое?
Реальна
ль явь?
И
радужны ли сны?
Звучит
мой смех,
невидима
слеза моя,
и
Чаплин
грустно
смотрит
со
стены.
* * *
Тане
Бабушкиной –
редактору
газеты "Новая панорама"
Читатель, стихов не читая,
живёт, как сохарь от сохи.
Иным не чета, не чета я –
я чту и читаю стихи.
Вот
так-то, приятель, вот так-то.
А
чтоб поддержать свою честь,
сей
факт самый строгий редактор
как
фактор обязан учесть.
Придя
в кабинет спозаранку
в
предгрозье безумного дня,
одну
стихотворную гранку
он
станет верстать для меня.
Отложит
докучную почту,
ругнёт
актуальную весть,
одну
стихотворную строчку
прочтёт
– и засветится весь
и
вместо всех громов и молний,
которые
вдруг улеглись,
своею
улыбкой наполнит
ещё
незаполненный лист.
*
* *
День
пролетел. И под покровом ночи
живые
тени шепчутся в углу,
над
головой негромко душ стрекочет,
и
ручейки сбегают по стеклу,
и
мысли куролесят впрямь и вкривь, но
Неведомый
(а Он и добр, и строг)
шепнул
мне слово, получилась рифма,
и
– выплеснулось: сразу восемь строк!
Post Scriptum. Тут я вынужден признаться:
под
шум воды внимая голосам,
я
записал не восемь, а двенадцать.
Четыре
строчки сочинил я сам.
MONUMENTUM
"Exegi monumentum."
Квинт
Гораций Флакк, "Оды", Книга
третья,
"К Мельпомене" – I в.до н.э.
"Я
памятник себе воздвиг..."
А.С.Пушкин, "Памятник" – 1836г.
"...моим
стихам, как драгоценным винам,
настанет
свой черёд."
М.И.Цветаева,
"Моим стихам" – 1913г.
I
Ах,
не ставьте мне, не ставьте монумента!
Ох,
не стройте мне, не стройте пьедестала!
Церемония,
торжественная лента –
только
этого ещё не доставало!
Я
не мню себя на троне и с короной,
потому
и повторяю неустанно:
человек
разносторонний я, но скромный –
мне
не надо, мне не надо пьедестала!
Оказалось,
что до данного момента
мне
никто не думал ставить монумента.
Ну,
а всё-таки, на всякий крайний случай,
я
заранее скажу, так будет лучше.
II
Кость
от кости и плоть от плоти –
мои
стихи, мой крест и труд.
Однажды
в твёрдом переплёте
их
непременно издадут,
и
признанный при жизни классик –
в
вопросах данных не слабак –
не
пожалеет светлых красок
в
своих напутственных словах.
Высокий
лоб, ума палаты,
во
взгляде сдержанная грусть –
мои
стихи, мои баллады
он
прочитает наизусть.
Сквозь
грань веков он сблизит сроки,
играя
складкою на лбу.
Мои
разрозненные строки
уйдут
цитатами в толпу.
И
плотник девственной Мадонне,
оторопев
от этих строк,
как
высший знак любви – мой томик
надпишет
в дар наискосок.
III
Забыться
или, может быть, напиться,
пока
над головою в вышине
судьба
моя, неведомая птица,
крылом
усталым молча машет мне.
Уснуть,
пока свершаются событья
и
даль за поворотом не видна,
пока
в тяжёлом и немом подпитье
вершит
делами хмурый Сатана.
Я
сам, уже пенсионер почти что,
немало
повидавший на веку,
мечтаю,
чтоб какой-нибудь мальчишка
подружке
прочитал мою строку.
Она
услышит, помолчит о чём-то,
и
– лепестки срывая: нечет-чёт –
мальчишку
полюбившая девчонка
мою
строку в ответ ему прочтёт.
Я
слушаю стихи, гляжу в их лица,
синеет
небосвод в моём окне.
Судьба
моя, неведомая птица,
крылом
усталым молча машет мне...
IV
Примеряю
платье Короля
вовсе
не пустой забавы для,
а
поскольку чувствую нутром,
что
и я бы мог взойти на Трон.
Говорят,
что платья королей
часто
шьют компании вралей.
Вот
теперь определить изволь,
что
за платье носит твой король.
У
меня есть зрение и слух,
чтобы
отличить одно из двух:
кто
портной – а кто играет роль,
гол
король – или одет король.
Если
ошибусь, тогда конец:
я
покину навсегда Дворец,
но
с орбиты не сойдёт земля
без
меня на Троне Короля...
*
* *
Я живу,
наполненный стихами.
Я
пишу о Боге и о Хаме.
Как
иначе я писать бы мог,
коль
во мне живут и Хам, и Бог?
Я
хожу по свалкам, по газонам,
я
дышу и смрадом, и озоном,
я
смотрю на звёзды, на зарю
и
за всё "спасибо" говорю.
САМЫХ ЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ
Полине Капшеевой и Лиоре Ган –
одновременно и независимо.
Сижу – пиит, венец творенья,
пишу и в клочья рву листы.
"Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты..."
И, на ногу забросив ногу,
строчу, почёсывая грудь:
"Мы
все учились понемногу
Чему-нибудь
и как-нибудь."
Скриплю пером, шуршу листами,
клочки валяются у ног.
"Он
уважать себя заставил
И
лучше выдумать не мог."
...Я отложу мои писанья
на месяц, на год, на сто лет.
Велю:
– Закладывайте сани!
Скажу:
– Подайте пистолет.
Придут безрадостные вести.
Бубенчик смолкнет под дугой.
"Погиб
поэт, невольник чести," –
напишет обо мне другой...
Покуда не увековечен,
живу, растрачиваю пыл,
пью водку, обнимаю женщин
и каждой лгу:
"Я
вас любил."
НАДЕЖДА
Не
видели у нас в Натании
ни
Александра, ни Наталии –
супруги
не бывали тут,
но
эфиопы чернокожие,
на
предков Пушкина похожие,
на
нашей улице живут.
Встречаю
у любого дома я
младое
племя, незнакомое,
как
выражался сам пиит,
и
наше будущее дальнее
резвится
среди нас под пальмами
и
по-амхарски говорит.
Конечно,
скажут: мол – "утопия,
какая,
к чёрту, Эфиопия,
мы
дали
миру Книгу книг!"
Однако,
позже или ранее
появится
у нас в Израиле
поэта
русского
двойник.